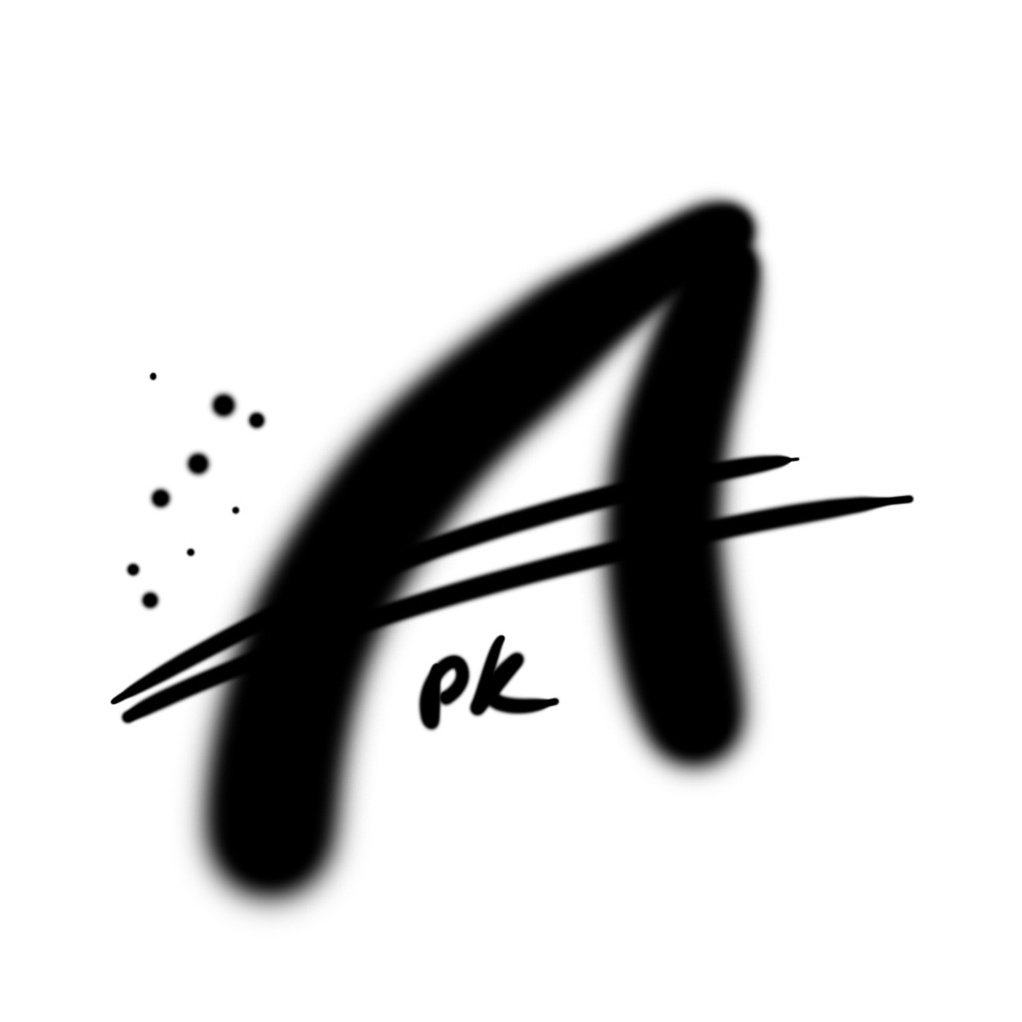«У ДИАЛОГА ЕСТЬ ОДНО СВОЙСТВО: ОН ПРОДУКТИВНЫЙ, КОГДА СВОБОДНЫЙ»
О современном искусстве «АркА» разговаривает с Георгием Никичем, важнейшим российский искусствоведом, основателем и куратором художественных форумов, выставочных залов, членом международных ассоциаций критиков, а также популяризатором современного искусства.
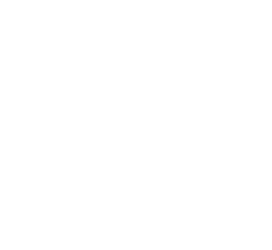
Текст: Мария Шамраева, фото: М.Никитин
Поводом для приезда Георгия Никича-Криличевского из Москвы в Петрозаводск стало закрытие выставки «Художник театра/Театр художника» в Городском выставочном зале. После обсуждения творческих методов и художественных концепций участников выставки Сергея Терентьева и Натальи Логиновой мы поговорили с Георгием Никичем о проектах и людях, повлиявших на современное искусство в Карелии, а также коротко о том, что происходит в мире.

Георгий Никич-Криличевский, Сергей Терентьев, Наталья Логинова, Мария Юфа. Финисаж выставки «Художник театра/Театр художника» в Городском выставочном зале. фото: М.Никитин
- Мы знаем, что вы неплохо знаете современную карельскую художественную жизнь. Можете рассказать о людях, которые произвели на вас впечатление?
- Карелия – регион с особой историко-географической ситуацией. В культурном отношении его главные темы связаны с «Калевалой», петроглифами. В 1990-м году я вел в Петрозаводске семинар, в котором участвовали музейщики. Тогда было много идей, связанных с тем, чтобы выбивать изображения петроглифов на набережной в Петрозаводске, переносить их на одежду и тому подобное. Такая история характерна для многих регионов, где обновление искусства видится как «одизайнеривание».
Почему так происходит? Потому что какое-то настоящее включение в современность требует людей, которые к этому готовы. Таких людей всегда немного, но они должны образовывать опору, место сборки или место сбора хотя бы. Если говорить об этих сюжетах, то в пример можно привести истории, которые делали Сергей Терентьев и Маша Юфа. Я могу вспомнить Международную триеннале визуальных искусств «Отпечатки», где происходило реконцептуализирование искусства, выразившееся в Art & Science фестивале. Привычные вещи, связанные с традицией, могли создавать новое поле смыслов.
Второе условие культурного обновления связано с общением вовне. Невозможно все время вариться в собственном соку. Эту задачу решала такая институция как медиа центр «Vыход», который собирал образовательные инициативы, получал гранты, приглашал людей. В Карелии началось движение. Центральным персонажем этой истории был, конечно, Сережа Терентьев.
- Карелия – регион с особой историко-географической ситуацией. В культурном отношении его главные темы связаны с «Калевалой», петроглифами. В 1990-м году я вел в Петрозаводске семинар, в котором участвовали музейщики. Тогда было много идей, связанных с тем, чтобы выбивать изображения петроглифов на набережной в Петрозаводске, переносить их на одежду и тому подобное. Такая история характерна для многих регионов, где обновление искусства видится как «одизайнеривание».
Почему так происходит? Потому что какое-то настоящее включение в современность требует людей, которые к этому готовы. Таких людей всегда немного, но они должны образовывать опору, место сборки или место сбора хотя бы. Если говорить об этих сюжетах, то в пример можно привести истории, которые делали Сергей Терентьев и Маша Юфа. Я могу вспомнить Международную триеннале визуальных искусств «Отпечатки», где происходило реконцептуализирование искусства, выразившееся в Art & Science фестивале. Привычные вещи, связанные с традицией, могли создавать новое поле смыслов.
Второе условие культурного обновления связано с общением вовне. Невозможно все время вариться в собственном соку. Эту задачу решала такая институция как медиа центр «Vыход», который собирал образовательные инициативы, получал гранты, приглашал людей. В Карелии началось движение. Центральным персонажем этой истории был, конечно, Сережа Терентьев.

Георгий Никич-Криличевский. фото: М.Никитин
Была связанность карельского искусства с российскими культурными горизонтами. Я помню какие-то выставки, спектакль в Сургуте в рамках фестиваля «60 параллель». Это было мировое измерение, глобальное. В Петрозаводске возникали разные школы, связанные с мультимедиа, фотографией, современным искусством, проходили мастер-классы, приезжали разные люди. Это была живая история.
Я нарочно не называю фамилии, хотя я их знаю. У художников была возможность проявить себя. И эта история росла из 1980-90-х годов. И в начале 2010-х это еще было. Мне казалось, что в Карелии ситуация находится на взлете, причем, не только в Петрозаводске. Проектными историями это просачивалось в Костомукшу, Сортавалу, Медвежьегорск. Искусство не обязательно может быть новым, но хорошо, когда оно живое, творческое. Критерии новизны уже все забыли. Дело в том, что ты включаешься в это по-разному: делая какую-то странную экспозицию. Или арт-резиденцию. Или создавая огромные перформативные программы, такие как медиаопера. Вот это всё - обещающая среда. И здесь появилась Наташа Егорова, (единственная фамилия, которую я назову). Она – график, дизайнер с достаточно традиционным контекстом, но настроенная на новое.
Много лет назад говорилось, что то-то и то-то происходит потому, что у явления такая генетика. А сейчас мы знаем, что это - пропорция генетической предопределенности и социального контекста. Нельзя сказать, что важнее: биологическое или социальное. Как нельзя понять, что важнее: ширина или длина при вычислении площади прямоугольника. Но заполнение этого прямоугольника каким-то смыслом – это та плотность, которую начал создавать «Vыход». И это проникло в другие музеи и в другие города.
Есть два пути. Один путь – подчинение норме жизни. Норма жизни - это «давайте что-нибудь такое аккуратненькое делать». В пределах Союза художников или в пределах модернизма, может быть. Лишь бы не больно было и не остро. Второй путь: давайте делать дизайн, товарные продукты, зарабатывать деньги. Преодоление этой вынужденной раздвоенности (я никого не обвиняю), демонстрируют очень немногие. Примером такой демонстрации служит недавняя выставка про театр-не театр в Городском выставочном зале, где искусство является не итогом, а процессом. Люди меняют роли, можно войти в любую идентичность. Фрагменты являются целым и наоборот. Культура – это образ жизни. И культура может быть творящей или склоняющей к стереотипному проявлению. Это очень видно.
Я сегодня был в мастерской Натальи Егоровой и увидел, что в Петрозаводске есть совершенно европейский художник, на мой взгляд. Абсолютно счастливый в том, что касается наполненности и таланта, но бесперспективный, потому что я не вижу ни одного места в России, где она может быть воспринята. А в Европе она не может быть воспринята по ситуативному определению – по гражданству. Наташа, ты живешь вперед! Ты тратишь десятки, сотни и тысячи часов, нанося крошечные штрихи на металлическую основу, чтобы потом отпечатать идеальный черный цвет. Тут нет человека, которому это можно объяснить.
Мой папа, известный художник, говорил: у людей нет приемника и на то, и на другое. У людей приемники настроены только на определенные волны, и я понимаю это, зная про теорию вкуса. Если раньше ты слушал только народные песни, то ты, скорее всего, не включал музыку Бетховена. А если ты слушал шансон, то вряд ли ты - поклонник интеллектуального рэпа или чего-нибудь такого. Сейчас размер вкусового диапазона, твои отношения внутри принятия разного говорят о твоем принятии мира. Это - огромный дефицит. И я еще раз повторяю, что тут не обойтись без современной культуры как таковой, не превращенной в дизайн, в развлечение для публики или в средство для получения внебюджетных денег музеям. В Петрозаводске это поле сузилось – нет «Vыхода». Есть «Синий коридор», другие площадки, но всегда приходится говорить одно и то же в результате - о культурной политике. Видит она людей, художников? Ответ: нет.
Я нарочно не называю фамилии, хотя я их знаю. У художников была возможность проявить себя. И эта история росла из 1980-90-х годов. И в начале 2010-х это еще было. Мне казалось, что в Карелии ситуация находится на взлете, причем, не только в Петрозаводске. Проектными историями это просачивалось в Костомукшу, Сортавалу, Медвежьегорск. Искусство не обязательно может быть новым, но хорошо, когда оно живое, творческое. Критерии новизны уже все забыли. Дело в том, что ты включаешься в это по-разному: делая какую-то странную экспозицию. Или арт-резиденцию. Или создавая огромные перформативные программы, такие как медиаопера. Вот это всё - обещающая среда. И здесь появилась Наташа Егорова, (единственная фамилия, которую я назову). Она – график, дизайнер с достаточно традиционным контекстом, но настроенная на новое.
Много лет назад говорилось, что то-то и то-то происходит потому, что у явления такая генетика. А сейчас мы знаем, что это - пропорция генетической предопределенности и социального контекста. Нельзя сказать, что важнее: биологическое или социальное. Как нельзя понять, что важнее: ширина или длина при вычислении площади прямоугольника. Но заполнение этого прямоугольника каким-то смыслом – это та плотность, которую начал создавать «Vыход». И это проникло в другие музеи и в другие города.
Есть два пути. Один путь – подчинение норме жизни. Норма жизни - это «давайте что-нибудь такое аккуратненькое делать». В пределах Союза художников или в пределах модернизма, может быть. Лишь бы не больно было и не остро. Второй путь: давайте делать дизайн, товарные продукты, зарабатывать деньги. Преодоление этой вынужденной раздвоенности (я никого не обвиняю), демонстрируют очень немногие. Примером такой демонстрации служит недавняя выставка про театр-не театр в Городском выставочном зале, где искусство является не итогом, а процессом. Люди меняют роли, можно войти в любую идентичность. Фрагменты являются целым и наоборот. Культура – это образ жизни. И культура может быть творящей или склоняющей к стереотипному проявлению. Это очень видно.
Я сегодня был в мастерской Натальи Егоровой и увидел, что в Петрозаводске есть совершенно европейский художник, на мой взгляд. Абсолютно счастливый в том, что касается наполненности и таланта, но бесперспективный, потому что я не вижу ни одного места в России, где она может быть воспринята. А в Европе она не может быть воспринята по ситуативному определению – по гражданству. Наташа, ты живешь вперед! Ты тратишь десятки, сотни и тысячи часов, нанося крошечные штрихи на металлическую основу, чтобы потом отпечатать идеальный черный цвет. Тут нет человека, которому это можно объяснить.
Мой папа, известный художник, говорил: у людей нет приемника и на то, и на другое. У людей приемники настроены только на определенные волны, и я понимаю это, зная про теорию вкуса. Если раньше ты слушал только народные песни, то ты, скорее всего, не включал музыку Бетховена. А если ты слушал шансон, то вряд ли ты - поклонник интеллектуального рэпа или чего-нибудь такого. Сейчас размер вкусового диапазона, твои отношения внутри принятия разного говорят о твоем принятии мира. Это - огромный дефицит. И я еще раз повторяю, что тут не обойтись без современной культуры как таковой, не превращенной в дизайн, в развлечение для публики или в средство для получения внебюджетных денег музеям. В Петрозаводске это поле сузилось – нет «Vыхода». Есть «Синий коридор», другие площадки, но всегда приходится говорить одно и то же в результате - о культурной политике. Видит она людей, художников? Ответ: нет.

Георгий Никич-Криличевский. фото: М.Никитин
- Из чего можно складывать среду для выставочных проектов? Вы соединяете искусство и спорт, например. Что можно соединять, а что несоединимо?
- Я считаю, что искусство - это универсальный язык. И искусство как универсальный язык не затребовано ни обществом, ни властью и пока в малой степени бизнесом. Мы с коллегами включаемся в какие-то истории и говорим о каких-то научно-технических инновациях в культуре и делаем выставки на эту тему. Или говорим о феномене движения, и я делаю выставку «Культура движения» в Российском этнографическом музее, которая соединяет искусство, науку и современную практику движений. Вот Миша (наш фотограф Михаил Никитин, - прим. ред.) занимался боксом, кто-то йогой, третий – ирландскими танцами. Разные люди в разных городах рассказывают про купание в ледяной воде, бег, ходьбу с палками скандинавскими и без них… И я говорю не о спортивном и профессионализированном, а о таком специальном посвящении времени своему телу для чего-то.
Выставка в этнографическом музее выглядит как провокация. Люди рассказывают о себе, дают свои горнолыжные ботинки, биты, которыми они играют в городки, сабли, которые они сами себе сделали, чтобы заниматься испанским фехтование по образцу XVIII века и так далее. Они дают эти предметы и рассказывая свои истории – про это выставка. А в витринах спрятаны вещи, которые дали сотрудники этнографического музея – замечательные мячики, чижи, игры какие-то, лошадки, на которых учились играть в козлодрание в Киргизии, обувь с шипами, в которой по льду ходили скандинавы. А связь где между ними? Между тем, что лежит в витринах, и тем, что рассказывают люди? Связь разорвана, но, в то же время, она реально существует. И это и есть методология современной культуры, искусства, с помощью которых я показываю, как это работает.
Одна сотрудница музея сделала мультфильмы, где рассуждает о 12-ти предметах, и из этого появляется какое-то размышление. В то же время я разговариваю с другим этнографом, которая говорит, что научилась прясть только в шестой летний сезон обучения у одной старушки в Архангельской области. Пять лет у нее не получалось, а потом как пробило. И старушка ей: «Наконец-то ты поняла! У меня на прялке кони скачут направо». И она говорит, что, да, заметила, что и нить идет направо. А в этом году она ходила с дочерью учиться верховой езде. Оказывается, на прялке сидишь, как на лошади, и этот тип движения: сидеть на лошади и прясть – это одна историческая сущность, и про нее тело только помнит.
Эта память тела и история тела – интересная штука. У Сережи Терентьева она прослеживается в театре, в самом принципе участия художника в спектакле. Или у Наташи Егоровой, когда она на маленьком металлическом листочке пишет стихотворение Лорки, потом делает оттиск, потом снова прокатывает, и так 100 раз, и у нее из белого листика с буквами получается практически «Черный квадрат». Превращение белого в черное, исчезновение и появление текста - это для нее процесс делания офорта. И мы видим, что это концепция становится космогоничной. Это про то, что в Карелии есть художники, которые не подчиняются обстоятельствам жизни и правилам игры. Это очень классно.
- Я считаю, что искусство - это универсальный язык. И искусство как универсальный язык не затребовано ни обществом, ни властью и пока в малой степени бизнесом. Мы с коллегами включаемся в какие-то истории и говорим о каких-то научно-технических инновациях в культуре и делаем выставки на эту тему. Или говорим о феномене движения, и я делаю выставку «Культура движения» в Российском этнографическом музее, которая соединяет искусство, науку и современную практику движений. Вот Миша (наш фотограф Михаил Никитин, - прим. ред.) занимался боксом, кто-то йогой, третий – ирландскими танцами. Разные люди в разных городах рассказывают про купание в ледяной воде, бег, ходьбу с палками скандинавскими и без них… И я говорю не о спортивном и профессионализированном, а о таком специальном посвящении времени своему телу для чего-то.
Выставка в этнографическом музее выглядит как провокация. Люди рассказывают о себе, дают свои горнолыжные ботинки, биты, которыми они играют в городки, сабли, которые они сами себе сделали, чтобы заниматься испанским фехтование по образцу XVIII века и так далее. Они дают эти предметы и рассказывая свои истории – про это выставка. А в витринах спрятаны вещи, которые дали сотрудники этнографического музея – замечательные мячики, чижи, игры какие-то, лошадки, на которых учились играть в козлодрание в Киргизии, обувь с шипами, в которой по льду ходили скандинавы. А связь где между ними? Между тем, что лежит в витринах, и тем, что рассказывают люди? Связь разорвана, но, в то же время, она реально существует. И это и есть методология современной культуры, искусства, с помощью которых я показываю, как это работает.
Одна сотрудница музея сделала мультфильмы, где рассуждает о 12-ти предметах, и из этого появляется какое-то размышление. В то же время я разговариваю с другим этнографом, которая говорит, что научилась прясть только в шестой летний сезон обучения у одной старушки в Архангельской области. Пять лет у нее не получалось, а потом как пробило. И старушка ей: «Наконец-то ты поняла! У меня на прялке кони скачут направо». И она говорит, что, да, заметила, что и нить идет направо. А в этом году она ходила с дочерью учиться верховой езде. Оказывается, на прялке сидишь, как на лошади, и этот тип движения: сидеть на лошади и прясть – это одна историческая сущность, и про нее тело только помнит.
Эта память тела и история тела – интересная штука. У Сережи Терентьева она прослеживается в театре, в самом принципе участия художника в спектакле. Или у Наташи Егоровой, когда она на маленьком металлическом листочке пишет стихотворение Лорки, потом делает оттиск, потом снова прокатывает, и так 100 раз, и у нее из белого листика с буквами получается практически «Черный квадрат». Превращение белого в черное, исчезновение и появление текста - это для нее процесс делания офорта. И мы видим, что это концепция становится космогоничной. Это про то, что в Карелии есть художники, которые не подчиняются обстоятельствам жизни и правилам игры. Это очень классно.

Георгий Никич-Криличевский. фото: М.Никитин
- Какие музеи или выставочные площадки вам сейчас интересны?
- Речь может идти не о площадках, а о проектных группах. Есть некоторое количество проектных групп, которые умеют собрать кураторов, дизайнеров, и из этого получается что-то толковое. Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» в Томске – отличный музейный проект, сильный по сути и убедительный по форме. Или недавно я видел подвал-инсталляцию в музее Aros. В Дании у меня два любимых музея: Aros в городе Орхус и музей Louisiana Museum of Modern Art, один из крупнейших европейских музеев современного искусства, он находится под Копенгагеном.
То, как сделан этот подвал-инсталляция в Aros, говорит об интеллектуальном качестве и о статусе этого музея. Второй раз я видел, как там меняются инсталляции. Очень трудно показать собрание инсталляций, согласитесь. У нас привычка делать тематические выставки, поэтому музейная коллекция инсталляций – это очень сильно. В «Луизиане» все время переделывается экспозиция, дополняется научно-художественными сюжетами. Все это связано с окружающим ландшафтом, поскольку еще в 1970-е годы музей имел экологически-декларативную концепцию.
Мне нравится Музей на набережной Бранли в Париже. Типичный большой краеведческий музей, сугубо французский. Его плюс – форма. Там простейшие по форме разделы: Океания, Австралия, Африка… Ты можешь видеть классно сделанные инсталляции, безукоризненные этикетки, удобно спроецированные мультимедиа. Формальный подход оказывается очень убедительным. Содержание не ахти какое, но, если ты захочешь, можешь погрузиться в научные концепции. Музей дает такую возможность, потому что здесь хорошая наука. Этому музею не нужна хорошая концепция. Ученые не делают хорошие концепции, как правило, для выставок – им это ни к чему. Здесь экспозиция увлекает своим художнически-дизайнерским языком, и ты легко считываешь, прямо слизываешь как сладкое, первый слой, а дальше – хочешь смотри – хочешь не смотри.
- Речь может идти не о площадках, а о проектных группах. Есть некоторое количество проектных групп, которые умеют собрать кураторов, дизайнеров, и из этого получается что-то толковое. Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» в Томске – отличный музейный проект, сильный по сути и убедительный по форме. Или недавно я видел подвал-инсталляцию в музее Aros. В Дании у меня два любимых музея: Aros в городе Орхус и музей Louisiana Museum of Modern Art, один из крупнейших европейских музеев современного искусства, он находится под Копенгагеном.
То, как сделан этот подвал-инсталляция в Aros, говорит об интеллектуальном качестве и о статусе этого музея. Второй раз я видел, как там меняются инсталляции. Очень трудно показать собрание инсталляций, согласитесь. У нас привычка делать тематические выставки, поэтому музейная коллекция инсталляций – это очень сильно. В «Луизиане» все время переделывается экспозиция, дополняется научно-художественными сюжетами. Все это связано с окружающим ландшафтом, поскольку еще в 1970-е годы музей имел экологически-декларативную концепцию.
Мне нравится Музей на набережной Бранли в Париже. Типичный большой краеведческий музей, сугубо французский. Его плюс – форма. Там простейшие по форме разделы: Океания, Австралия, Африка… Ты можешь видеть классно сделанные инсталляции, безукоризненные этикетки, удобно спроецированные мультимедиа. Формальный подход оказывается очень убедительным. Содержание не ахти какое, но, если ты захочешь, можешь погрузиться в научные концепции. Музей дает такую возможность, потому что здесь хорошая наука. Этому музею не нужна хорошая концепция. Ученые не делают хорошие концепции, как правило, для выставок – им это ни к чему. Здесь экспозиция увлекает своим художнически-дизайнерским языком, и ты легко считываешь, прямо слизываешь как сладкое, первый слой, а дальше – хочешь смотри – хочешь не смотри.

Георгий Никич-Криличевский. фото: М.Никитин
- Каким словом можно назвать современный вектор в искусстве?
- В каждый этап времени история искусства пересматривается. Сейчас мы живем в истории искусства, которая написана то ли в XIX веке, то ли в середине XX-го. Если прямо отвечать на вопрос, то, конечно, нет такого слова, чтобы обозначить какое-то главное течение в искусстве. Сначала были большие стили, и мы говорим про греческое, про средневековое искусство, про Ренессанс, барокко, после – классицизм, потом искусство модерна: сецессион, ар-нуво, попытка снова сделать большой стиль, который распространяется и на архитектуру, и на прикладное искусство, и на литературу, на всё. Но в это время уже накатила волна модернизма, и все изменилось. Вот экспрессионизм, вот кубизм, итальянский футуризм, русский кубофутуризм, производственное искусство, - каждая из концепций претендует на то, чтобы сказать, что искусство вот такое, а не такое, какое было раньше.
Каким образом ХХ век отбился от предыдущего периода? Возможно, новое слово можно было сказать в 1950-е и в 60-е годы. Слово сказал оп-арт. Оптическое искусство заняло свое место. Кинетическое искусство отделилось от оп-арта, а потом соединилось с ним. Можно коротко пересказывать историю искусств, но в чем прикол? Прикол в том, что каждое из этих направлений могло про себя сказать, включая поп-арт, естественно: «Я новое! Я могу о себе сказать концептуальное». Например: «Я - поп-арт, я перерабатываю мусор нашей цивилизации в продукты культуры. Я беру комикс, увеличиваю его с размера А4 на 5 метров, получается крупным растром комикс». Художника зовут Рой Лихтенштейн. Или Энди Уорхол говорит: «Я возьму героев, сделаю из них шелкографию и у каждого будет время славы». И так бесперечь самых разных историй.
Ситуация все-таки изменилась после 1980-90-х годов. Модернити позволило все превратить одновременно в прошлое и настоящее. То есть, прошлое стало настоящим, а настоящее – прошлым. И это очень точно и интересно. Это именно то, из чего возникает возможность понимания современного искусства как языка, связывающего самые разные сферы жизни. И это возможность развита, используется во всем мире (в разных мирах по-разному). «Большая утопия» – была такая выставка про русский авангард в начале 1990-х во Франкфурте, Нью-Йорке и в Москве. Но та утопия, которая была таковой в 20-е годы ХХ века, к этому моменту уже стала реальностью давно.
Если говорить о моих предпочтениях. Я понимаю, что некоторым трендом является то, что называется культура участия. Далеко не новый термин и далеко не новая практика, но она всё еще кажется мне недовключенной. Культура участия – когда профессионалы и непрофессионалы вместе что-то делают для того, чтобы и общество, и пространства менялись. Потому что это дает новую энергию самостоятельности или энергию нового самостоятельного мышления, уверенности в своем действии и так далее. Мне это кажется важной перспективой.
Смотрите: Городской выставочный зал показывает в Петрозаводске выставку про театр, и это не театральная выставка в чистом виде. Это как бы процесс в процессе. Или в московском Музее современного искусства была не очень удачная, но интересная выставка про «Геликон-оперу». Опера в музее? Это же разные сущности. Одно – искусство во времени, другое – визуальное, но как они друг в друге жили. Культура участия – это возможность диалога, а у диалога есть одно свойство: он продуктивный, когда свободный.
- В каждый этап времени история искусства пересматривается. Сейчас мы живем в истории искусства, которая написана то ли в XIX веке, то ли в середине XX-го. Если прямо отвечать на вопрос, то, конечно, нет такого слова, чтобы обозначить какое-то главное течение в искусстве. Сначала были большие стили, и мы говорим про греческое, про средневековое искусство, про Ренессанс, барокко, после – классицизм, потом искусство модерна: сецессион, ар-нуво, попытка снова сделать большой стиль, который распространяется и на архитектуру, и на прикладное искусство, и на литературу, на всё. Но в это время уже накатила волна модернизма, и все изменилось. Вот экспрессионизм, вот кубизм, итальянский футуризм, русский кубофутуризм, производственное искусство, - каждая из концепций претендует на то, чтобы сказать, что искусство вот такое, а не такое, какое было раньше.
Каким образом ХХ век отбился от предыдущего периода? Возможно, новое слово можно было сказать в 1950-е и в 60-е годы. Слово сказал оп-арт. Оптическое искусство заняло свое место. Кинетическое искусство отделилось от оп-арта, а потом соединилось с ним. Можно коротко пересказывать историю искусств, но в чем прикол? Прикол в том, что каждое из этих направлений могло про себя сказать, включая поп-арт, естественно: «Я новое! Я могу о себе сказать концептуальное». Например: «Я - поп-арт, я перерабатываю мусор нашей цивилизации в продукты культуры. Я беру комикс, увеличиваю его с размера А4 на 5 метров, получается крупным растром комикс». Художника зовут Рой Лихтенштейн. Или Энди Уорхол говорит: «Я возьму героев, сделаю из них шелкографию и у каждого будет время славы». И так бесперечь самых разных историй.
Ситуация все-таки изменилась после 1980-90-х годов. Модернити позволило все превратить одновременно в прошлое и настоящее. То есть, прошлое стало настоящим, а настоящее – прошлым. И это очень точно и интересно. Это именно то, из чего возникает возможность понимания современного искусства как языка, связывающего самые разные сферы жизни. И это возможность развита, используется во всем мире (в разных мирах по-разному). «Большая утопия» – была такая выставка про русский авангард в начале 1990-х во Франкфурте, Нью-Йорке и в Москве. Но та утопия, которая была таковой в 20-е годы ХХ века, к этому моменту уже стала реальностью давно.
Если говорить о моих предпочтениях. Я понимаю, что некоторым трендом является то, что называется культура участия. Далеко не новый термин и далеко не новая практика, но она всё еще кажется мне недовключенной. Культура участия – когда профессионалы и непрофессионалы вместе что-то делают для того, чтобы и общество, и пространства менялись. Потому что это дает новую энергию самостоятельности или энергию нового самостоятельного мышления, уверенности в своем действии и так далее. Мне это кажется важной перспективой.
Смотрите: Городской выставочный зал показывает в Петрозаводске выставку про театр, и это не театральная выставка в чистом виде. Это как бы процесс в процессе. Или в московском Музее современного искусства была не очень удачная, но интересная выставка про «Геликон-оперу». Опера в музее? Это же разные сущности. Одно – искусство во времени, другое – визуальное, но как они друг в друге жили. Культура участия – это возможность диалога, а у диалога есть одно свойство: он продуктивный, когда свободный.
События