За наше счастливое детство
Эту книгу Маръа Малми уже два раза читала, и еще собирается

вслух!
текст: Маръа Малми
Давно хотела написать о такой книге, но все не решалась. Когда что-то нравится безоговорочно, когда ты счастлив от соприкосновения, когда безмерно уважаешь – об этом сложно говорить. Мюд Марьевич Мечев. Мы (не все, многие) знаем, кто он. Художник, гениальный, смелый. Увитый, прославленный к концу, претерпевший вначале. Любивший Карелию. К сожалению, ушедший.
Я лично не была с ним знакома. То, что он открылся для меня, как автор книги, которую сегодня мы бы отнесли к разряду «автофикшн», но при этом не являющейся биографией, научпопом в его пыльном смысле, - это настоящее чудо. Оказалось, Мечев еще и художник слова, каких мало, редчайший мастер, для которого слово – драгоценный материал.
Я лично не была с ним знакома. То, что он открылся для меня, как автор книги, которую сегодня мы бы отнесли к разряду «автофикшн», но при этом не являющейся биографией, научпопом в его пыльном смысле, - это настоящее чудо. Оказалось, Мечев еще и художник слова, каких мало, редчайший мастер, для которого слово – драгоценный материал.
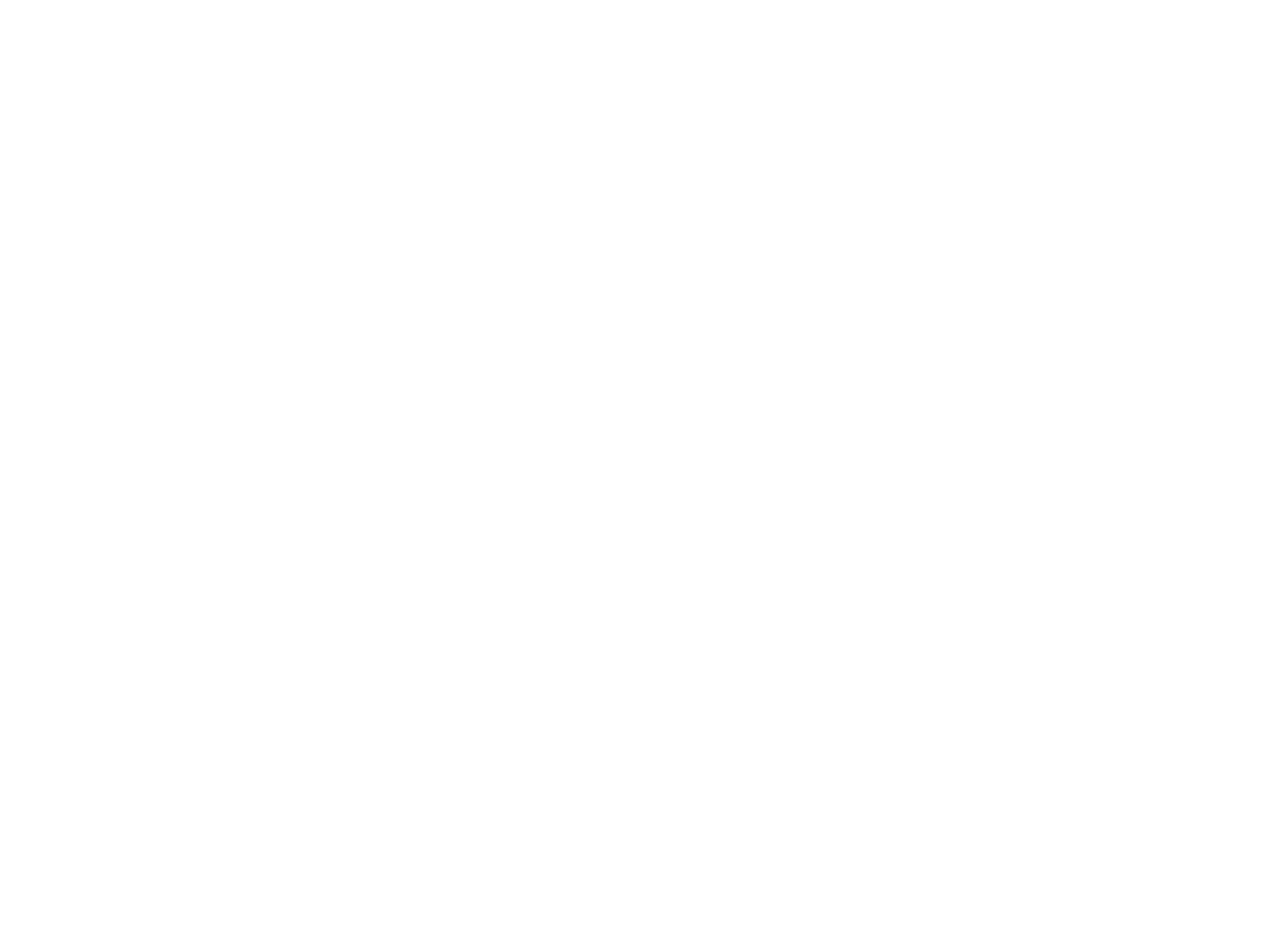
Эту книгу не опубликовали при его жизни. Какое счастье, что он оставил эти записи, какое счастье, что его жена Ольга Хлопина подготовила их, а «Волчок» опубликовал. Сразу, с первых строк, с эпиграфа вас охватит ощущение полета. Несчастливое, трудное, бедное детство описано с такой любовью и лаской, со смехом, с широко открытыми, смелыми глазами художника.
Наш переулок называется Пуговичный, и если идти из нашего парадного входа, то попадешь в Лопухинский переулок, а если идти по нему дальше, то попадешь в Оболенский переулок, а оттуда уже видна усадьба Льва Толстого, которая стоит в Хамовническом переулке, и здесь же наша старинная церковь, а за ней — Хамовнический плац и Хамовнические казармы.
Я очень люблю наш район: он старинный, и домов много старинных, и названия — прелесть! Трубецкой переулок, Несвицкий, Божениновский, Чудовская улица, Крымский проезд!
Я очень люблю наш район: он старинный, и домов много старинных, и названия — прелесть! Трубецкой переулок, Несвицкий, Божениновский, Чудовская улица, Крымский проезд!
Сколько ностальгии в этом. Юные читатели не поймут, что автор мысленно бежит по улицам детства, которых уже нет. Нет названий, построек. Все другое, и люди другие. Но в сердце своем ему хочется идти именно так. И всем нам захочется, просто мы еще не знаем об этом, не доросли. Как трогательно и ненавязчиво он об этом говорит. В книге замечательно передана эпоха – предметы, предназначения которых мы уже и не знаем, фамилии и названия, которых не слышали, бывшие естественными для детей того времени. А также люди, много людей – разных профессий, разных «бэкграундов», добрых, недобрых, их голоса слышны отчетливо. Книга – большое свидетельство эпохи. Того времени, в котором, по словам автора, «легче всего разлюбить страну». И вот тут очень важно помнить, что ее создавали многие, в том числе и наши любимые дедушки и бабушки тоже.
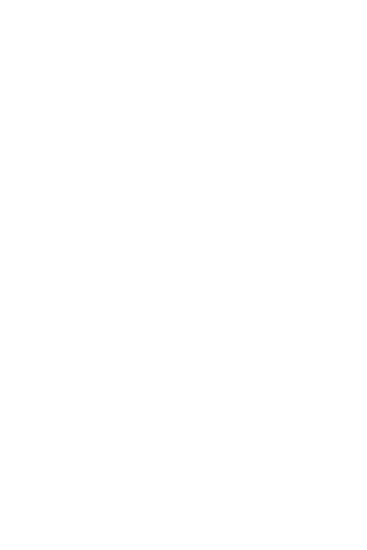
Мюд Мечев. Фото Игоря Георгиевского
Они жили в Хамовниках. И звали их «буржуи». Бабушка, мама и два брата. Отца уже забрали. Конец 30-х годов 20-го века. Скоро большая война. Сколько испытаний выпало на семью Мечева, сколько давления пришлось испытать его близким. Слежка, обыски, бесправность. И постоянное презрение окружающих. Они не пролетарии. У них в семье враг народа. И они страшно бедны.
А я знал, что мы теперь — бедные, и очень страдал от этого, то есть не оттого, что бедные, — это-то не беда, это я понимал, — но оттого, что все нас презирали за это. Ведь мы были не просто бедные, мы были интеллигенты, мы были чистые, мы были «ученые», а по мнению нашего двора, позорнее этих сочетаний и быть ничего не могло.
Бедняк должен быть грязен, рван, он должен ругаться, пить водку, петь песни, и, конечно, никаких, там, книг или картин у него не должно быть. Топчан с тюфяком, ну, стул, ну, стол, ну, корыто на стене, ну, чайник на столе. А то картин понавесили, а самим жрать нечего!
Но это, конечно, была самая безобидная причина всеобщего к нам презрения. Хотя… вот еще: наша мама говорила на «иностранном» языке, а моя бабушка, вторая моя бабушка, Зинаида, не только, в отличие от мамы, не скрывала этого, но и могла в магазине довольно громко обратиться ко мне по-французски, за что весь наш двор считал нас не только «буржуями», но еще и евреями, и это мне почему-то было обиднее всего. Я не думал, что это плохо, но очень уж они отвратительно ржали при этом.
Так мы и жили: тихо, бедно и всего боялись.
Бедняк должен быть грязен, рван, он должен ругаться, пить водку, петь песни, и, конечно, никаких, там, книг или картин у него не должно быть. Топчан с тюфяком, ну, стул, ну, стол, ну, корыто на стене, ну, чайник на столе. А то картин понавесили, а самим жрать нечего!
Но это, конечно, была самая безобидная причина всеобщего к нам презрения. Хотя… вот еще: наша мама говорила на «иностранном» языке, а моя бабушка, вторая моя бабушка, Зинаида, не только, в отличие от мамы, не скрывала этого, но и могла в магазине довольно громко обратиться ко мне по-французски, за что весь наш двор считал нас не только «буржуями», но еще и евреями, и это мне почему-то было обиднее всего. Я не думал, что это плохо, но очень уж они отвратительно ржали при этом.
Так мы и жили: тихо, бедно и всего боялись.
У главного героя, школьника Мюда есть младший брат. И если бы не он, это была бы взрослая книга. Но брат, похожий на Оську из Швамбрании, спасает положение. Что он говорит, как мыслит и чем занят – это гомерически смешно! Я давно не смеялась вслух над прочитанным текстом. И никогда не думала, что можно с таким облегчением, совершенно бесстыдным образом смеяться, читая книгу, которая посвящена годам репрессий.
То, как младший изводит мать и бабушку, которые, разумеется, страшно измучены заботами, то, как он спорит со старшим братом, отстаивая свою независимость, то, что творит на людях, рискуя привлечь ненужное внимание – в этом столько настоящего, незамутненного, счастливого детства. Детства, как будто у всех все в порядке, как будто жизнь продолжается. Благодаря этим детям и выбранной интонации автора, я верю, что жизнь продолжается в любых условиях. Продолжалась и тогда. Ведь постричь и выкрасить кота под тигра может прийти в голову только счастливому ребенку, у которого есть детство. Только счастливый ребенок, располосованный котовьими когтями, скажет: «Наконец-то я хорошо увидел свой гемоглобин»!
То, как младший изводит мать и бабушку, которые, разумеется, страшно измучены заботами, то, как он спорит со старшим братом, отстаивая свою независимость, то, что творит на людях, рискуя привлечь ненужное внимание – в этом столько настоящего, незамутненного, счастливого детства. Детства, как будто у всех все в порядке, как будто жизнь продолжается. Благодаря этим детям и выбранной интонации автора, я верю, что жизнь продолжается в любых условиях. Продолжалась и тогда. Ведь постричь и выкрасить кота под тигра может прийти в голову только счастливому ребенку, у которого есть детство. Только счастливый ребенок, располосованный котовьими когтями, скажет: «Наконец-то я хорошо увидел свой гемоглобин»!
Тут он сказал:
— В своем горе я совсем забыл о счастливой жизни! Но теперь я сам буду жить счастливо и вам всё устрою! — и замолчал.
Последние его слова меня насторожили, и я спросил, что именно он нам устроит. И он прошептал мне на ухо: «Я вас всех озолочу!» Я остолбенел от этих слов, а он продолжал шептать… главное, по его словам, было узнать, действительно ли наша другая бабушка, Зинаида, статская советница, а дальше — дело простое: как только выяснится, что это так, то, когда бабушка Зинаида приедет, он попросит у нее несколько бриллиантов, и мы вместе с ним продадим их, и все будет хорошо!
— В своем горе я совсем забыл о счастливой жизни! Но теперь я сам буду жить счастливо и вам всё устрою! — и замолчал.
Последние его слова меня насторожили, и я спросил, что именно он нам устроит. И он прошептал мне на ухо: «Я вас всех озолочу!» Я остолбенел от этих слов, а он продолжал шептать… главное, по его словам, было узнать, действительно ли наша другая бабушка, Зинаида, статская советница, а дальше — дело простое: как только выяснится, что это так, то, когда бабушка Зинаида приедет, он попросит у нее несколько бриллиантов, и мы вместе с ним продадим их, и все будет хорошо!
Поразительная эпоха, которая наложила свой отпечаток на выжившие семьи страны, взбаламутила, перемешала. В этой семье тоже все было непросто. Одна бабушка революционерка. Вторая – статская советница. Главный герой, хоть и подросток, но уже чувствует, что ему предстоит заботиться о семье, брать на себя мужские решения. А пока ему просто нужно выжить в школе и во дворе, где его не любят. И он предпринимает для этого шаги, от которых я, как мама, с трудом унимаю бьющееся сердце.
Славик подает мне топор, и я прикладываю обух к пылающему уху.
— Ну как ты?
— Лучше.
— Ну, все в порядке. Но теперь тебе привыкать нужно.
— К чему?
— К битью.
— А… как привыкать?
— Ну, пусть тебя брат лупит, а ты терпи. Ну, и я буду.
— Ну и что?
— Закалишься, как индеец будешь. Тебе дадут в зубы, а ты только улыбнешься — и ему в ухо! А главное, плакать не будешь. Это — главное!
— Спасибо, Славик!
— Ничего. В следующий раз заходи сразу.
— А будет… следующий раз?
— А как же!
Я еще раз благодарю его, выхожу и думаю, что, если бы я не увидел его в окне, я так бы и плакал… Хорошо иметь друга!
— Ну как ты?
— Лучше.
— Ну, все в порядке. Но теперь тебе привыкать нужно.
— К чему?
— К битью.
— А… как привыкать?
— Ну, пусть тебя брат лупит, а ты терпи. Ну, и я буду.
— Ну и что?
— Закалишься, как индеец будешь. Тебе дадут в зубы, а ты только улыбнешься — и ему в ухо! А главное, плакать не будешь. Это — главное!
— Спасибо, Славик!
— Ничего. В следующий раз заходи сразу.
— А будет… следующий раз?
— А как же!
Я еще раз благодарю его, выхожу и думаю, что, если бы я не увидел его в окне, я так бы и плакал… Хорошо иметь друга!
Над книгой работала художница Олеся Гонсеровская. Не знаю, была ли она знакома с семьей художника Мечева. Ее скупая графика, простой карандаш, угловатые, несколько детские покосившиеся перспективы, подчеркивают время.
Вдова художника Ольга Хлопина в послесловии написала: «Выплеснув на бумагу мир горя, беззакония, предательства своего детства, Мюд сделает что-то очень важное. Не только для себя, для своего освобождения, но и для нас. Чтобы помнили, если захотим». Я уверена, что «Детство в Пуговичном переулке» Мюда Мечева нашим подросткам интересно.
Вдова художника Ольга Хлопина в послесловии написала: «Выплеснув на бумагу мир горя, беззакония, предательства своего детства, Мюд сделает что-то очень важное. Не только для себя, для своего освобождения, но и для нас. Чтобы помнили, если захотим». Я уверена, что «Детство в Пуговичном переулке» Мюда Мечева нашим подросткам интересно.
Юрга Виле «Сибирские хайку» Издательство «Самокат» 18+
Тоже одно из самых удивительных моих открытий. Оказывается, о сложных, болезненных темах, о трагических событиях, причем, реальных, можно написать и вот так. Сейчас возрастные ограничения в книге поставлены внушительные, но вдумчивый, не паникующий родитель со своим ребенком 10 лет сможет начать разговор о трудных страницах истории с графического романа Юрги Виле, писательницы из Литвы.
Романа не было бы без художницы Лины Итагаки, думаю, что он задумывался этими женщинами, писался и рисовался – вместе. Думаю, его было сложно переводить, сложно издавать на другом языке. Ведь страницы построены по принципу комикса, в нем масса картинок, и текст – это тоже рисунок, для него подобран особый шрифт. Текст – это рассказ мальчика Альгиса, записанный на том, что под руку попадет. А попадет немногое, ведь мальчик и его родня, и много людей из его села в Литве, депортированы – отправляются в Сибирь не по своей воле, а значит, у них нет ничего из того, что мы могли бы отнести к «удобству» или «излишеству». Даже самого необходимого у них нет.
И сколько же придется Альгису пережить трудного. И сколько же в его душе проснется радости в этот нелегкий период. Удивительно наблюдать, как добры бывают люди в сложных ситуациях. Как рождается веселье, когда ничто к этому не располагает. Какой мощной силой бывает надежда или мечта. «Прекрасное можно найти даже в грустном и страшном», - считают авторы. Если вам и вашему ребенку нужны силы – почитайте эти книги. И силы к вам точно придут.
И сколько же придется Альгису пережить трудного. И сколько же в его душе проснется радости в этот нелегкий период. Удивительно наблюдать, как добры бывают люди в сложных ситуациях. Как рождается веселье, когда ничто к этому не располагает. Какой мощной силой бывает надежда или мечта. «Прекрасное можно найти даже в грустном и страшном», - считают авторы. Если вам и вашему ребенку нужны силы – почитайте эти книги. И силы к вам точно придут.
А теперь… Вангую! Так называется наша веселая подрубрика. Предлагаем вам выбрать страницу книги (от 7 до 218), а также строку от 1 до 20 (от начала или от конца). И мы погадаем по книге. На этот раз – по книге «Детство в Пуговичном переулке». Ее автор Мюд Мечев уже не сможет погадать для читателя по своей книге. Но мы надеемся, что это сделает Ольга Хлопина, его вдова. Именно она вместе с редактором издательства Николаем Джумакулиевым приложила много сил, чтобы книга Мюда Марьевича увидела свет. Ваш комментарий должен выглядеть примерно так: «страница ХХ, строка ХХ от конца/начала». Мы хотим, чтобы выдернутые из книг фразы послужили толчком или для предсказания, или для пожелания.
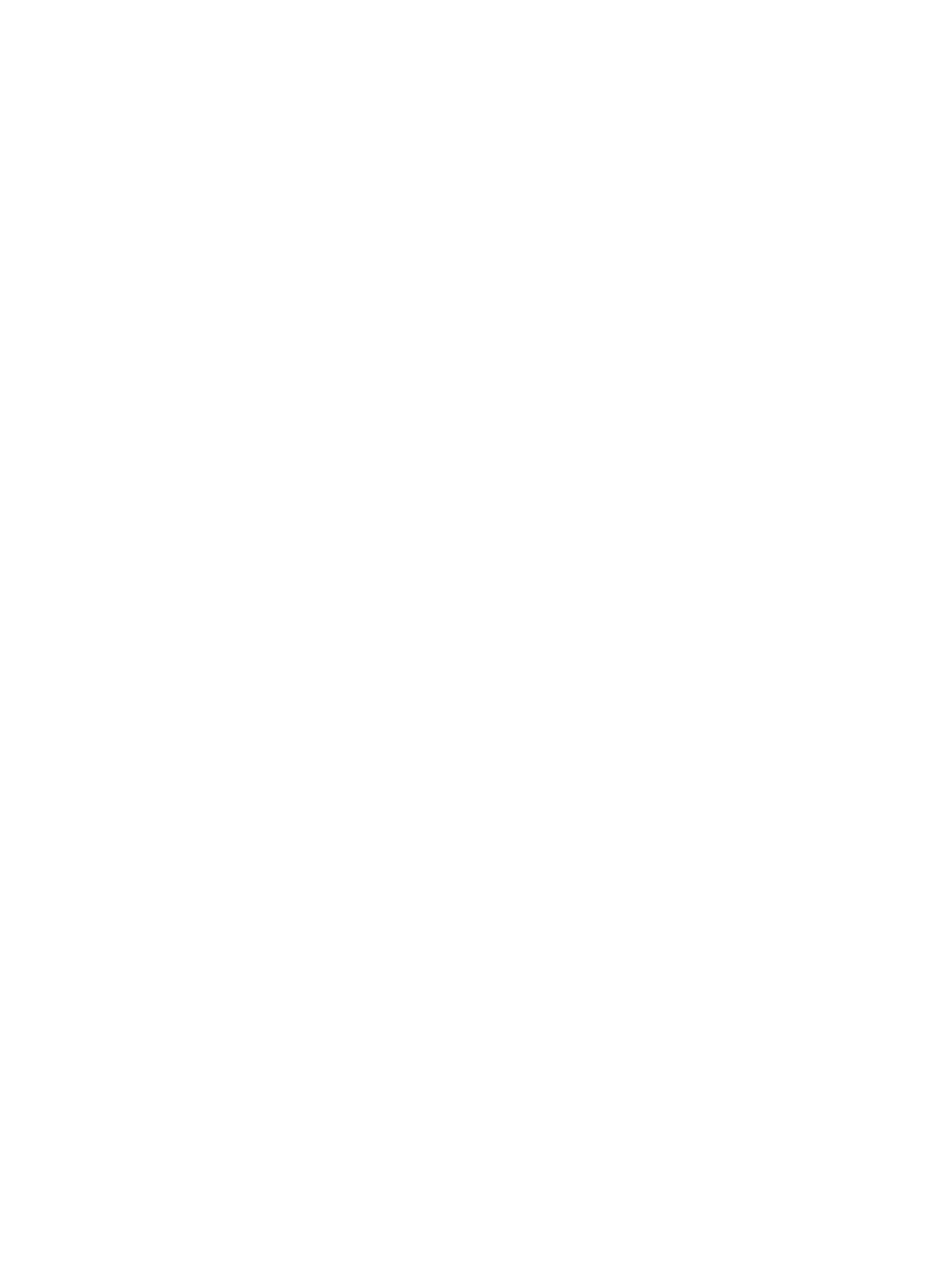
Светлана Тарасова, фото: ВК
В прошлый раз мы ванговали по книге Аллы Ботвич «Корабль “Снежный”». И мы гадаем по отклику читательницы Светланы Тарасовой. Она загадала: «Страница 52 строка 25 сверху». Выбранная фраза звучит так: «…загнутый угол. Пол каюты ходил ходуном, но чувство порядка взяло верх». Вот что написала Алла: «Внутренний компас и улыбка не просто проведут сквозь волнения, но позволят прокатиться с удовольствием к самым зеленым островам!»

Спасибо автору, спасибо нашим читателям! Ждем ваших комментариев, пожеланий и предложений.
Ваша Маръа Малми.
Ваша Маръа Малми.
События

