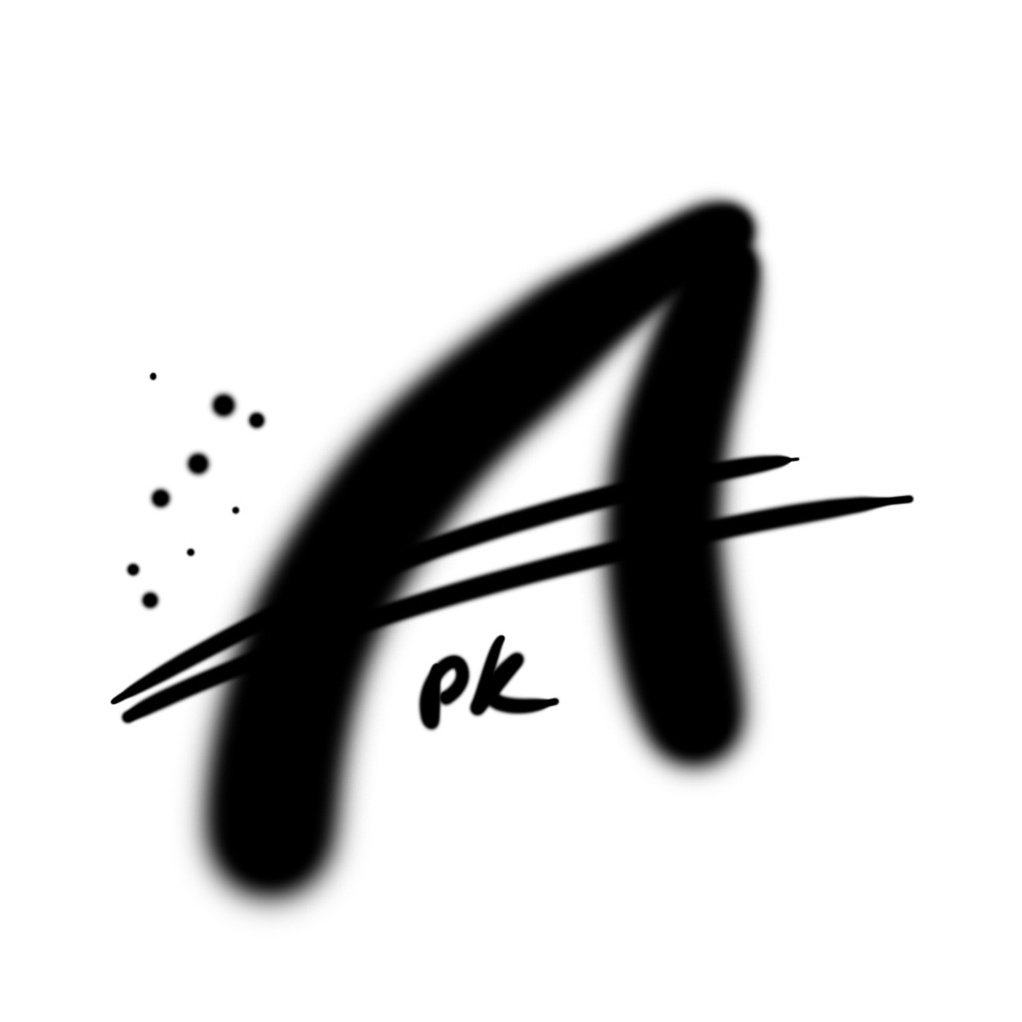Отбившись от стаи
Музыковед Анна Горнаева - о перформансе Александра Маньковского «I для скрипки соло» в Городском выставочном зале.
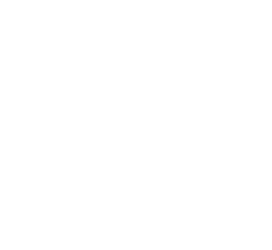
Текст: Анна Горнаева , фото: М.Никитин
22 марта Александр Маньковский исполнил сольную программу в Городском выставочном зале. Несмотря на то, что концерт был организован спонтанно и анонсирован всего за неделю, все места были заняты.
- Александр Маньковский – скрипач, живет на два города: Санкт-Петербург и Архангельск. Музыкой занимается с трех лет. С пяти лет играет на скрипке. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Сейчас Александр -"артист Архангельского филармонического камерного оркестра, преподает в Институте музыки, театра и хореографии РПГУ имени Герцена.
На афише концерта музыкант изображен в духе нуара, с наполовину закрытым лицом. Заинтриговало и то, что встречу со слушателями артист позиционировал не как традиционный концерт, а как линейное действие под названием «I для скрипки соло».
Скрипка – инструмент, способный в одиночку ярко разукрашивать тишину. Правда, струнники нечасто решаются на целую программу без сопровождения фортепиано - это требует особых усилий, которые не всегда оправдываются результатом. Александр пошел на этот шаг и не ошибся – его программа имеет большой успех у слушателей. Ее премьера состоялась в 2024 году в Архангельске и прошла в зале филармонии с аншлагом.
Скрипка – инструмент, способный в одиночку ярко разукрашивать тишину. Правда, струнники нечасто решаются на целую программу без сопровождения фортепиано - это требует особых усилий, которые не всегда оправдываются результатом. Александр пошел на этот шаг и не ошибся – его программа имеет большой успех у слушателей. Ее премьера состоялась в 2024 году в Архангельске и прошла в зале филармонии с аншлагом.

история возникновения концепции
В доверительном тоне квартирника исполнитель подготовил публику к восприятию, рассказав историю возникновения концепции. Два впечатления послужили импульсом к формированию программы: каменные лабиринты на Севере и зимний переход через Двину как символы мифологической инициации и обретения смысла в пути. Совокупность всех произведений артист называет сверхциклом и призывает не аплодировать между сочинениями. Это пронизывает музыкальное звучание единой драматургией и погружает слушателя в самоуглубленное состояние.
Основная тематика программы – одиночество. Но не как угнетающая покинутость, а как возможность самопознания и поиска ответов. Молодой музыкант очень эмоционально и даже откровенно делится мыслями, которые рождает в нем музыка, что стимулирует еще больший интерес к событию. Центральной идее отлично соответствует состав: скрипка соло, как бы отбившаяся от оркестровой стаи, стремится познать себя.
Основная тематика программы – одиночество. Но не как угнетающая покинутость, а как возможность самопознания и поиска ответов. Молодой музыкант очень эмоционально и даже откровенно делится мыслями, которые рождает в нем музыка, что стимулирует еще больший интерес к событию. Центральной идее отлично соответствует состав: скрипка соло, как бы отбившаяся от оркестровой стаи, стремится познать себя.

длинные локоны, худощавость и выразительные глаза
По идее автора, программа должна исполняться в полной темноте, чтобы обострить слуховое восприятие и полностью погрузиться в течение следующих друг за другом произведений. Свет в зале был приглушен, но ясный день не позволял совершенно отграничиться от лучей солнца. Артист предусмотрительно обеспечил всех желающих масками для сна, чтобы создать персональную тьму. Хотя видеть музыканта на сцене очень приятно: длинные локоны, худощавость и выразительные глаза – все это создает феминный, в чем-то сказочный, но отнюдь не хрупкий сценический образ и помогает нам поверить в чудо музыки.

Артист предусмотрительно обеспечил всех желающих масками для сна, чтобы создать персональную тьму.
Скрипка Александра Маньковского звучала проникновенно и вдумчиво, создавая идеальный баланс эмоционального и рационального. Владение музыканта смычком восхищает: для каждого сочинения он подбирал индивидуальный тембр – то пронзительный и кричащий, то нежный и глубокий. Во время игры чувствовалось, как у музыканта происходит внутренняя работа и как он вкладывает смысл в каждый звук.
Из элементов перформативности можно отметить свободное перемещение скрипача по залу. Один раз это создало очень выразительный эффект: длительное время Александр играл в пространстве, невидимом для основной части посетителей, из-за чего звук был рассеян, а на кульминационной фазе музыкант внезапно вышел и стремительно обошел весь зал по кругу.
Много свежей для Карелии музыки прозвучало на концерте. Большую часть программы составили сочинения второй половины ХХ века: Игорь Стравинский Элегия памяти А. Онноу (1944); Кшиштоф Пендерецкий Каденция (1984); Джон Харрис Харбисон Четыре песни одиночества (1985); Серж Аркюри Монолог (1991) и Монолог II (1994); Симеон тен Хольт Каприччио (1999), Лера Ауэрбах – T'filah (1996). Музыка была драматичной, и постепенно мрачные тона начали проглядываться даже в украшающих пространство буйных подсолнухах Зураба Церетели из серии «Я садовником родился».
Много свежей для Карелии музыки прозвучало на концерте. Большую часть программы составили сочинения второй половины ХХ века: Игорь Стравинский Элегия памяти А. Онноу (1944); Кшиштоф Пендерецкий Каденция (1984); Джон Харрис Харбисон Четыре песни одиночества (1985); Серж Аркюри Монолог (1991) и Монолог II (1994); Симеон тен Хольт Каприччио (1999), Лера Ауэрбах – T'filah (1996). Музыка была драматичной, и постепенно мрачные тона начали проглядываться даже в украшающих пространство буйных подсолнухах Зураба Церетели из серии «Я садовником родился».

Все эти тревожные метания привели нас к вечному – к творению Иоганна Себастьяна Баха. Конечно, Чакона из Второй скрипичной партиты – одна из драматичнейших страниц в наследии мастера, но даже баховская трагедия воспринимается нами упоительно. Артист открыл новую грань произведения, начав его не с претенциозного forte, а затаенно - с аккордов pizzicato. Эта интересная находка по-новому раскрыла сочинение, создав в нем дополнительную диалогичность и оставив больший потенциал для контрастного развития.
Так скрипач провел слушателей по пути от хаоса к гармонии, за что публика восторженно наградила его единодушными овациями. Это мероприятие – отличный пример того, как в современном мире можно установить контакт с аудиторией, живо преподнося интеллектуальную академическую музыку.
События