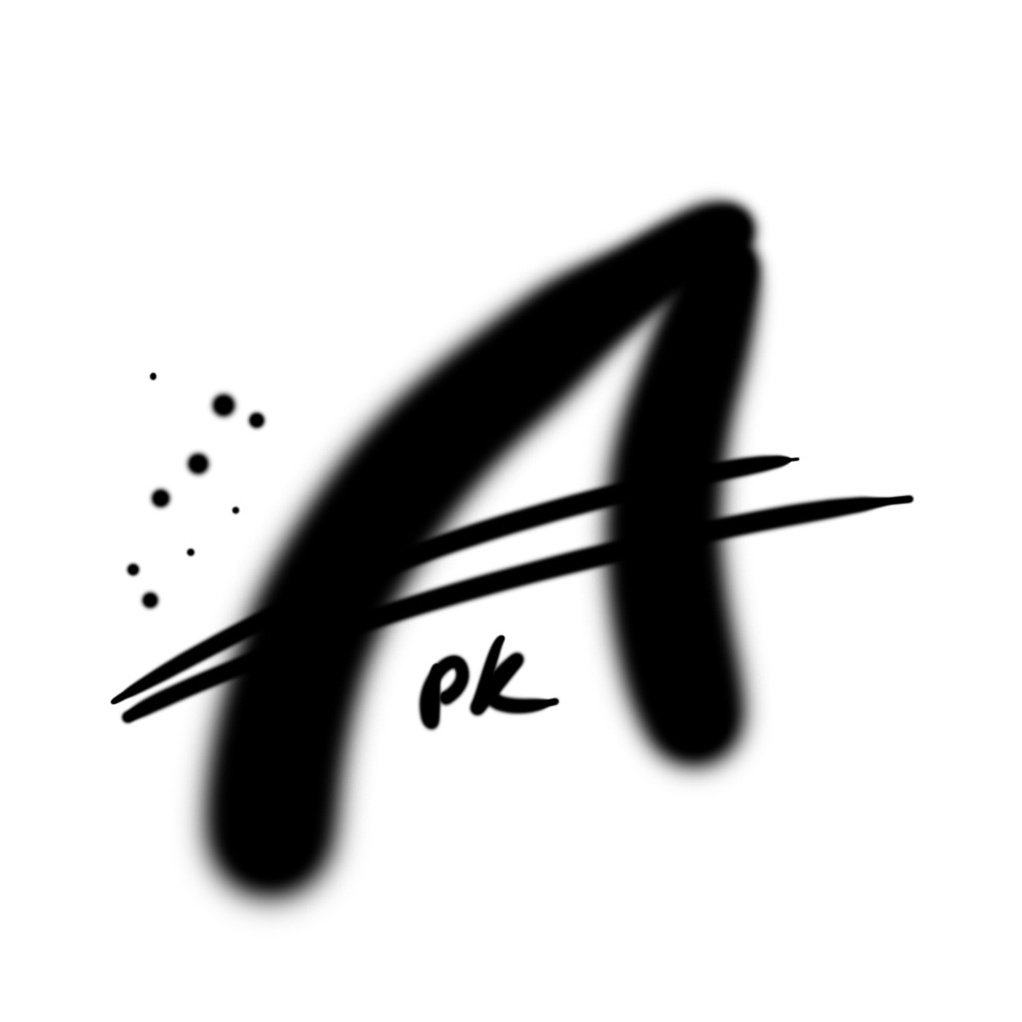Память, с которой мы живем
Музыкант, писатель, известный общественный деятель Дмитрий Цвибель рассказывает «Арке» о своем послевоенном детстве, о папе и маме, которые в годы войны служили в прифронтовом театре, о милосердии и строгости по отношению к себе и к другим, о трагических, роковых и счастливых историях из жизни людей, переживших войну.

Текст: Мария Шамраева, фото: М.Никитин
Дмитрий Григорьевич (он просит называть его Димой) подарил нам несколько сборников из библиотечки газеты «Общинный вестник». Один из них называется «Судьбы, опаленные войной» и включает в себя шесть интервью с членами еврейской общины Петрозаводска. Это живые рассказы участников Великой Отечественной войны о том, чему свидетелями они были, и о той памяти, с которой они жили. Некоторые истории, рассказанные коротко, вошли в нашу беседу.
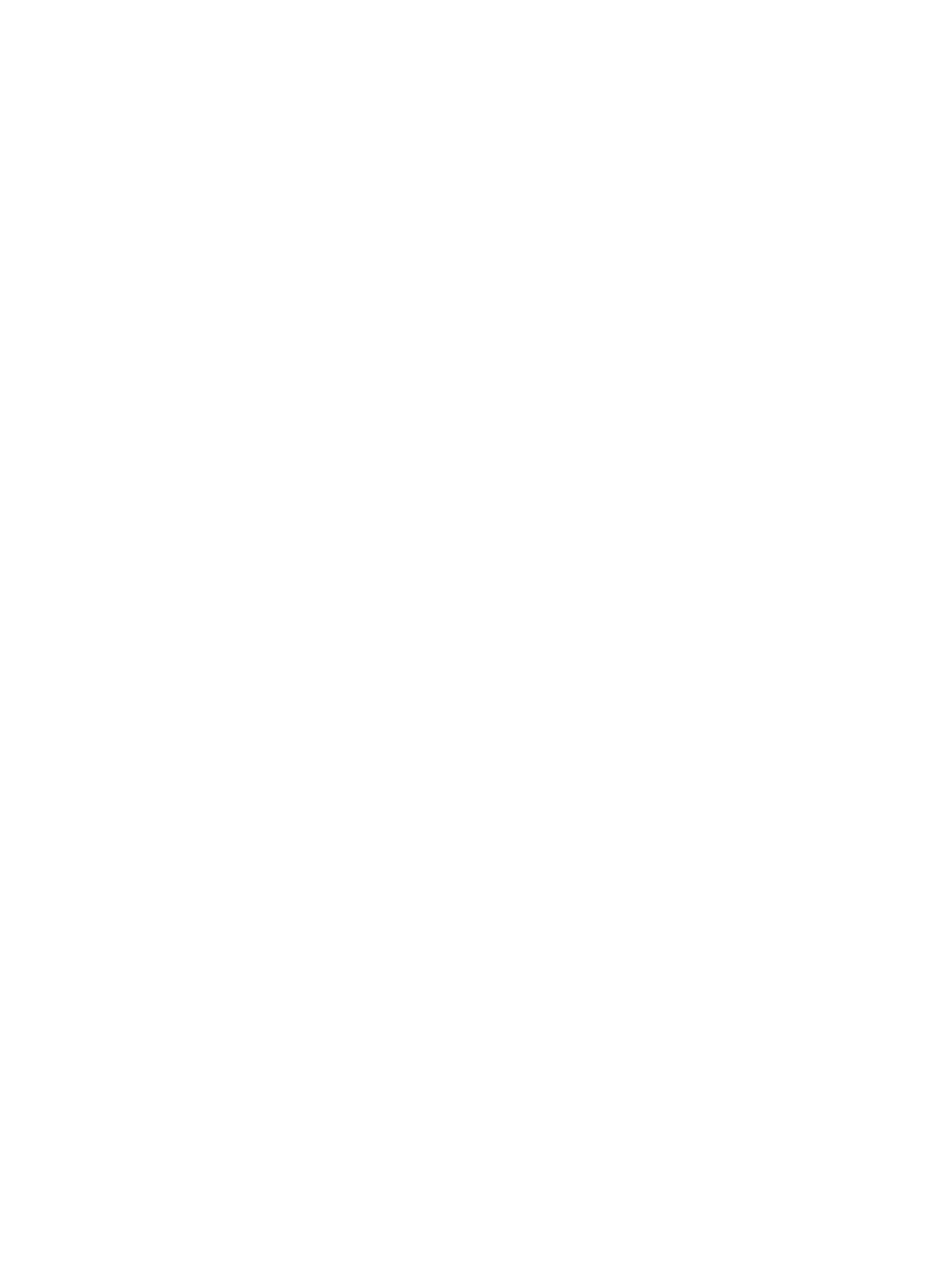
Дмитрий Цвибель - музыкант, композитор, писатель, общественный деятель. Много лет был концертмейстером балета Музыкального театра Карелии. Был заместителем председателя Союза театральных деятелей Карелии. Он - один из основателей еврейской общины Петрозаводска и ее председатель, издатель газеты «Общинный вестник», руководитель Информационного центра по Холокосту, антисемитизму и ксенофобии «ИЦХАК».
- Я знаю, что вы родились в 1945 году, в августе, уже после окончания войны. Помните ли вы из детства что-то, связанное с военным временем?
- Первое мое детское впечатление, связанное с прошедшей войной, было связано с походом с папой на базар (он располагался у Лобановского моста, потом в этом месте была стоянка). Мне было года четыре, и там я впервые увидел инвалидов. Они передвигались на самодельных тачках, катящихся даже не на колесиках, а на подшипниках. Почти все инвалиды были без ног. Они обитали на базаре потому, что там можно было кормиться и потому, что сами они были никому не нужны. Это был где-то 1949 или 1950-й год. И я помню, что расспрашивал об этом папу.
Понимаете, люди, которые действительно пережили войну, были на фронте, они редко рассказывали про то, что там было. Тогда эти безногие люди меня страшили. Потом, когда я уже занялся поиском материала, понял, куда делись все эти инвалиды. «Девать» их начали в 1949-м году, когда был юбилей Сталина. И, чтобы никто не помешал отпраздновать этот юбилей, калек решили убрать с улиц, вывезти из городов.
Сейчас уже все, наверное, знают, что торжественно День Победы отмечать начали только с 1965-го года, кажется. Людям надо было еще пережить шок от войны, чудовищные людские потери, разрушения. В Петрозаводской еврейской общине я издавал небольшую ежемесячную газетку. И к 60-летию Победы я задумал поговорить с теми, кто прошел войну, кто стрелял, был на передовой. И я смог собрать всего пять интервью. Большинство людей просто отказывалось говорить. Во-первых, многие не хотели говорить, потому что воспоминания очень страшные. А кто-то просто боялся говорить то, что мог бы сказать. Сейчас я перечитал эти интервью и понял, что они в наше время были бы не к месту. Вот это страшно.
У многих людей, родившихся после войны, создается ощущение, что Победа - это праздник, это здорово. По-моему, неверно расставленный акцент на торжество провоцирует оправдание амбиций и выигравших, и проигравших. Я против этого. Я даже против льгот детям войны. Кто такие дети войны? Если помогать, то нужно помогать их родителям, которые растили детей в то время.
- Первое мое детское впечатление, связанное с прошедшей войной, было связано с походом с папой на базар (он располагался у Лобановского моста, потом в этом месте была стоянка). Мне было года четыре, и там я впервые увидел инвалидов. Они передвигались на самодельных тачках, катящихся даже не на колесиках, а на подшипниках. Почти все инвалиды были без ног. Они обитали на базаре потому, что там можно было кормиться и потому, что сами они были никому не нужны. Это был где-то 1949 или 1950-й год. И я помню, что расспрашивал об этом папу.
Понимаете, люди, которые действительно пережили войну, были на фронте, они редко рассказывали про то, что там было. Тогда эти безногие люди меня страшили. Потом, когда я уже занялся поиском материала, понял, куда делись все эти инвалиды. «Девать» их начали в 1949-м году, когда был юбилей Сталина. И, чтобы никто не помешал отпраздновать этот юбилей, калек решили убрать с улиц, вывезти из городов.
Сейчас уже все, наверное, знают, что торжественно День Победы отмечать начали только с 1965-го года, кажется. Людям надо было еще пережить шок от войны, чудовищные людские потери, разрушения. В Петрозаводской еврейской общине я издавал небольшую ежемесячную газетку. И к 60-летию Победы я задумал поговорить с теми, кто прошел войну, кто стрелял, был на передовой. И я смог собрать всего пять интервью. Большинство людей просто отказывалось говорить. Во-первых, многие не хотели говорить, потому что воспоминания очень страшные. А кто-то просто боялся говорить то, что мог бы сказать. Сейчас я перечитал эти интервью и понял, что они в наше время были бы не к месту. Вот это страшно.
У многих людей, родившихся после войны, создается ощущение, что Победа - это праздник, это здорово. По-моему, неверно расставленный акцент на торжество провоцирует оправдание амбиций и выигравших, и проигравших. Я против этого. Я даже против льгот детям войны. Кто такие дети войны? Если помогать, то нужно помогать их родителям, которые растили детей в то время.
С мамой и папой, 1948 год, Петрозаводск.
Со старшим братом Володей.
- А вы сами не относитесь к категории «дети войны»?
- Да, я автоматически зачислен в эту категорию, но я это не признаю и не пользуюсь льготами за то, что я ребенок войны.
- А как вы это делаете?
- Очень просто. Союз театральных деятелей выписывает мне в День Победы деньги, и я их не беру. Обычно прошу отдать эти деньги на благотворительные проекты СТД. Если я один раз возьму, значит, я легализую это для себя. Я понимаю, что я с этими историями сейчас не в русле, но я никого ни к чему не призываю. Я за то, чтобы сделать в Петрозаводске галерею интеллектуальной доблести Карелии, рассказать о людях, которые внесли вклад в науку, в культуру. В Карелии есть кем гордиться.
- Что в вашей семье говорили о войне?
- Дело в том, что в годы войны мои родители работали в прифронтовом театре, который обслуживал карельский фронт. Этот театр был предшественником Музыкального театра Карелии. А предшественником прифронтового театра был Центральный театр Беломорско-Балтийского комбината НКВД. В этом лагерном театре работал, в частности, Леопольд Яковлевич Теплицкий, один из организаторов джазового движения в Карелии. Три года он был в лагере, а потом не мог вернуться в большой город. Сам он был из Питера. Посадили его, понятно, ни за что. В Петрозаводске он сделал колоссальную работу. Основал симфонический оркестр, руководил ансамблем «Кантеле». Про таких людей надо делать галереи.
Папа иногда рассказывал, как проходили выступления концертной бригады прифронтового театра. Подгоняли полуторку грузовую, опускали борта. И прямо там артисты пели и танцевали. Однажды был концерт в части, которая стояла на берегу реки. А на другом берегу были финны. И те кричали через реку – заказывали песни. Потом, говорит, мы уезжали, и начинался бой.
Среди артистов была Хельми Мальми (позднее - балетмейстер, заслуженная артистка КАССР, - прим. авт.). Когда открылись границы, она стала устраивать концертные встречи в Финляндии. И однажды на встрече к ней подошел какой-то финн и признался, что был во время того концерта на другом берегу и что она была у него на мушке. «Но уж больно хорошо вы танцевали!» Волшебная сила искусства.
- Да, я автоматически зачислен в эту категорию, но я это не признаю и не пользуюсь льготами за то, что я ребенок войны.
- А как вы это делаете?
- Очень просто. Союз театральных деятелей выписывает мне в День Победы деньги, и я их не беру. Обычно прошу отдать эти деньги на благотворительные проекты СТД. Если я один раз возьму, значит, я легализую это для себя. Я понимаю, что я с этими историями сейчас не в русле, но я никого ни к чему не призываю. Я за то, чтобы сделать в Петрозаводске галерею интеллектуальной доблести Карелии, рассказать о людях, которые внесли вклад в науку, в культуру. В Карелии есть кем гордиться.
- Что в вашей семье говорили о войне?
- Дело в том, что в годы войны мои родители работали в прифронтовом театре, который обслуживал карельский фронт. Этот театр был предшественником Музыкального театра Карелии. А предшественником прифронтового театра был Центральный театр Беломорско-Балтийского комбината НКВД. В этом лагерном театре работал, в частности, Леопольд Яковлевич Теплицкий, один из организаторов джазового движения в Карелии. Три года он был в лагере, а потом не мог вернуться в большой город. Сам он был из Питера. Посадили его, понятно, ни за что. В Петрозаводске он сделал колоссальную работу. Основал симфонический оркестр, руководил ансамблем «Кантеле». Про таких людей надо делать галереи.
Папа иногда рассказывал, как проходили выступления концертной бригады прифронтового театра. Подгоняли полуторку грузовую, опускали борта. И прямо там артисты пели и танцевали. Однажды был концерт в части, которая стояла на берегу реки. А на другом берегу были финны. И те кричали через реку – заказывали песни. Потом, говорит, мы уезжали, и начинался бой.
Среди артистов была Хельми Мальми (позднее - балетмейстер, заслуженная артистка КАССР, - прим. авт.). Когда открылись границы, она стала устраивать концертные встречи в Финляндии. И однажды на встрече к ней подошел какой-то финн и признался, что был во время того концерта на другом берегу и что она была у него на мушке. «Но уж больно хорошо вы танцевали!» Волшебная сила искусства.
Семья Дмитрия Цвибеля, 1956 г.
Дмитрий Цвибель - член радиоклуба, ловит любительские радиостанции, записывая их данные.
- Залман Самуилович Кауфман рассказывал о том, как в синагоге в Петрозаводске встретился с немцем, который участвовал в том же бою, что и он. Только на стороне врага.
- Да, и он был пастором в 14-м поколении. Вместе со всеми его мобилизовали на фронт. Он воевал, попал в плен, был в плену на Карельском перешейке три или четыре года и, возможно, строил в Петрозаводске дома и дороги вместе с другими пленными. Наша семья жила на углу Урицкого и Луначарского в 8-квартирном доме, построенном для артистов. Все дома вокруг строили пленные немцы.
Вот это я очень хорошо помню: забор, колючая проволока, вышка. Пленных водил на работу и с работы конвой с собаками. Мой папа знал много языков, а на немецком он не только говорил, но и думал, поскольку родился и вырос в еврейском местечке, где разговаривали на идиш, а идиш это, грубо говоря, испорченный немецкий. И он познакомился через эту колючую проволоку с одним пленным офицером. Они разговаривали о музыке, о философии. И папа его подкармливал.
И еще был такой случай. В Петрозаводске жил Семен Ионович Бекенштейн, который три года провел в Освенциме. Все его родственники погибли. В Карелии он работал на лесозаготовках. Там тоже был лагерь немецких военнопленных. И он познакомился там с каким-то немцем и даже стал его немного опекать! Он увидел в нем не врага, а запуганного и несчастного человека. Удивительно! Семен Ионович был очень светлым человеком. Всегда веселый, улыбчивый. Когда мне сказали, что он был в Освенциме, я почему-то решил, что тот просто ездил туда на экскурсию. Другое и в голову не приходило.
Спилберг для фильма «Список Шиндлера» собирал по всему миру истории людей, которые пережили концлагерь. Разыскали и Семена Ионовича, вызвали в Петербург. Там команда проекта усадила за стол и записала полтора часа его воспоминаний. Вся собранная Спилбергом информация хранится в Израиле, в институте Яд ва-Шем, который занимается историей Холокоста.
Готовясь к 60-летию Победы, я брал интервью у очень скромного тихого человека Меера Шолымовича Фишмана. Он был танкистом-разведчиком, представляете? Чтобы узнать, есть ли в городе немцы, он в своем танке первым входил в город. Если начинают обстреливать - немцы есть. Такая вот рулетка. Его дважды представляли званию Героя Советского Союза, но так и не дали его.
Я вот что подумал: вот идет мимо тебя человек. Прошел и ушел. А если его остановить, поговорить, то у каждого будет что-то, что он не рассказывал никому. Многое остается за кадром по разным причинам.
- Да, и он был пастором в 14-м поколении. Вместе со всеми его мобилизовали на фронт. Он воевал, попал в плен, был в плену на Карельском перешейке три или четыре года и, возможно, строил в Петрозаводске дома и дороги вместе с другими пленными. Наша семья жила на углу Урицкого и Луначарского в 8-квартирном доме, построенном для артистов. Все дома вокруг строили пленные немцы.
Вот это я очень хорошо помню: забор, колючая проволока, вышка. Пленных водил на работу и с работы конвой с собаками. Мой папа знал много языков, а на немецком он не только говорил, но и думал, поскольку родился и вырос в еврейском местечке, где разговаривали на идиш, а идиш это, грубо говоря, испорченный немецкий. И он познакомился через эту колючую проволоку с одним пленным офицером. Они разговаривали о музыке, о философии. И папа его подкармливал.
И еще был такой случай. В Петрозаводске жил Семен Ионович Бекенштейн, который три года провел в Освенциме. Все его родственники погибли. В Карелии он работал на лесозаготовках. Там тоже был лагерь немецких военнопленных. И он познакомился там с каким-то немцем и даже стал его немного опекать! Он увидел в нем не врага, а запуганного и несчастного человека. Удивительно! Семен Ионович был очень светлым человеком. Всегда веселый, улыбчивый. Когда мне сказали, что он был в Освенциме, я почему-то решил, что тот просто ездил туда на экскурсию. Другое и в голову не приходило.
Спилберг для фильма «Список Шиндлера» собирал по всему миру истории людей, которые пережили концлагерь. Разыскали и Семена Ионовича, вызвали в Петербург. Там команда проекта усадила за стол и записала полтора часа его воспоминаний. Вся собранная Спилбергом информация хранится в Израиле, в институте Яд ва-Шем, который занимается историей Холокоста.
Готовясь к 60-летию Победы, я брал интервью у очень скромного тихого человека Меера Шолымовича Фишмана. Он был танкистом-разведчиком, представляете? Чтобы узнать, есть ли в городе немцы, он в своем танке первым входил в город. Если начинают обстреливать - немцы есть. Такая вот рулетка. Его дважды представляли званию Героя Советского Союза, но так и не дали его.
Я вот что подумал: вот идет мимо тебя человек. Прошел и ушел. А если его остановить, поговорить, то у каждого будет что-то, что он не рассказывал никому. Многое остается за кадром по разным причинам.
В балетном зале
. В эстрадном оркестре Дмитрий Цвибель играл на фортепиано и аккордеоне (1962-63 гг).
- Расскажите про театр, с которым ваши родители прошли войну.
- Папа ничего не рассказывал. Однажды, когда я проходил лечение в нашей городской больнице, к нам в палату привезли одного пожилого человека с инфарктом. Мы разговорились. Когда он узнал, что я работаю в театре, рассказал интересную историю. Во время войны он был ранен и попал в госпиталь в Рыбинске. И там их повели на спектакль. В Рыбинске гастролировал театр, который был при фронте, предшественник нашего Музыкального театра. В тот день давали «Сильву». Он говорит, тебе не объяснить, что такое для нас был этот театр. После всей этой грязи, горя, лишений увидеть таких красивых людей значило и себя ощутить живым человеком. И дальше он сказал, что впечатление было таким сильным, что он даже запомнил на всю жизнь имя артистки, которая исполняла главную роль - Ольга Калинина. «Представляешь? Вот это театр!» Я очень удивился и сказал ему, что Ольга Калинина жива, живет в Петрозаводске и работает в музыкальном училище. Он был потрясен. Сказал, что, если выйдет из больницы, придет к ней в музыкальное училище и скажет спасибо.
Я думаю, что искусству нужно уделять больше внимание, потому что благодаря искусству человек становится человеком. Есть надежда, что люди станут немного чище, выше, потому что искусство призывает к возвышенным чувствам, к идеалу, к которому хочется стремиться.
- Папа ничего не рассказывал. Однажды, когда я проходил лечение в нашей городской больнице, к нам в палату привезли одного пожилого человека с инфарктом. Мы разговорились. Когда он узнал, что я работаю в театре, рассказал интересную историю. Во время войны он был ранен и попал в госпиталь в Рыбинске. И там их повели на спектакль. В Рыбинске гастролировал театр, который был при фронте, предшественник нашего Музыкального театра. В тот день давали «Сильву». Он говорит, тебе не объяснить, что такое для нас был этот театр. После всей этой грязи, горя, лишений увидеть таких красивых людей значило и себя ощутить живым человеком. И дальше он сказал, что впечатление было таким сильным, что он даже запомнил на всю жизнь имя артистки, которая исполняла главную роль - Ольга Калинина. «Представляешь? Вот это театр!» Я очень удивился и сказал ему, что Ольга Калинина жива, живет в Петрозаводске и работает в музыкальном училище. Он был потрясен. Сказал, что, если выйдет из больницы, придет к ней в музыкальное училище и скажет спасибо.
Я думаю, что искусству нужно уделять больше внимание, потому что благодаря искусству человек становится человеком. Есть надежда, что люди станут немного чище, выше, потому что искусство призывает к возвышенным чувствам, к идеалу, к которому хочется стремиться.
- А где они еще гастролировали?
- Были еще где-то на юге, потому что у папы сохранилась южная фотография. Может, в Ялте. Есть такая книжечка «Всю войну на колесах» Николая Рубана, он был ведущим артистом этого театра. Там он описывает это время и театр. После войны он стал артистом Московского театра оперетты. А после войны мои родители оказались в Сортавале. В 1946 году мы уже переехали в Петрозаводск.
- Вы родились в августе 1945-го года. Ваши родители решились родить ребенка, возможно, потому что чувствовали близкий конец войне?
- Думаю, что да. Любая война заканчивается. С другой стороны, за аборт тогда, сразу после войны, извините, сажали в тюрьму. Аборт был подсудным делом. Я родился в Сортавале в шикарном здании нынешнего Дома офицеров, бывшего американского борделя. Поэтому, наверное, я такой веселый.
В Иерусалиме с мамой.
Фото для фойе театра.
- Где в Петрозаводске работали ваши родители?
- Папа работал в Финском драматическом театре, в филармонии, в Русском театре драмы, в музыкальном училище, которое открыли в 1948 году. Мама не работала, она занималась детьми (у меня было два брата). Папа, чтобы обеспечить семью, работал на шести работах.
Мама всегда была рядом с папой. Они познакомились в Архангельске – там папа работал в симфоническом оркестре, а мама училась играть на скрипке.
С началом войны она поехала с папой, была в оркестре альтисткой.
Папа рассказывал, что однажды они ехали с какой-то передовой после концерта в открытой грузовой машине. По дороге, не заметив, они проскочили какой-то военный пост. Вдогонку часовой выстрелил в машину. Пуля попала в пряжку дирижера Льва Косинского, отскочила от нее и смертельно ранила другого артиста, виолончелиста. В ближайшей деревне его прооперировали, извлекли пулю, но ранение было серьезным, и он умер.
Лев Косинский сохранил эту пулю, предназначавшуюся ему, повесил ее дома на стену. Я ее видел, когда был в гостях у него и его жены Ольги Павловны Калининой, той, которая пела заглавную партию в «Сильве». Лев Афанасьевич Косинский потом был и директором ансамбля «Кантеле», и художественным руководителем Карельской филармонии, и директором Петрозаводского музучилища.
С педагогом Екатериной Карловной Рикконен.
Со "Спидолой", слушая «Голос Америки».
- Как познакомились ваши папа и мама?
- По словам друга папы, тот был немножко «с тараканами» - он читал не переставая. Читал, стоя в очередях, улицу переходил с книгой. Причем, в основном у него были книги на немецком. В Москве он даже поступил в какой-то литературный вуз, но бросил учебу, когда выяснилось, что в конце семестра каждый, кто поедет в колхоз, будет переведен на следующий курс без экзамена. Он устраивался в театр к Михоэлсу, но что-то ему не понравилось, и он ушел. Когда он жил в Архангельске, однажды пришел в библиотеку и увидел девушку, со всех сторон обложенную книгами. Первым делом он посмотрел на книги, только потом - на девушку. Так папа познакомился с мамой.
Портрет Дмитрия Цвибеля - коллаж дочери Наталии.
- А как в семье относились к песням и фильмам военного времени?
- Песни времен войны просто гениальные. А с кино в нашей семье было никак. Дело в том, что папа работал еще в кинотеатре «Сампо». Там перед тремя последними сеансами играл камерный симфонический оркестр. Тогда папа еще что-то смотрел, а в остальном ему было некогда – он читал книги.
Своих книг у нас дома не было. Мы брали их в библиотеке. И еще папе дарили много книг на немецком. Он прочитывал страничку, вырывал ее и бросал на растопку. Немножко варварство, да. Думаю, он боялся держать эти книги дома.
Папа умер в 1972 году. Он пришел домой с работы, ему стало плохо – скорая приехать не успела. Я всю жизнь по крупицам собираю о нем информацию. Думаю, что самое важное дело человека – сохранять память о том, что было с нами и до нас.
События