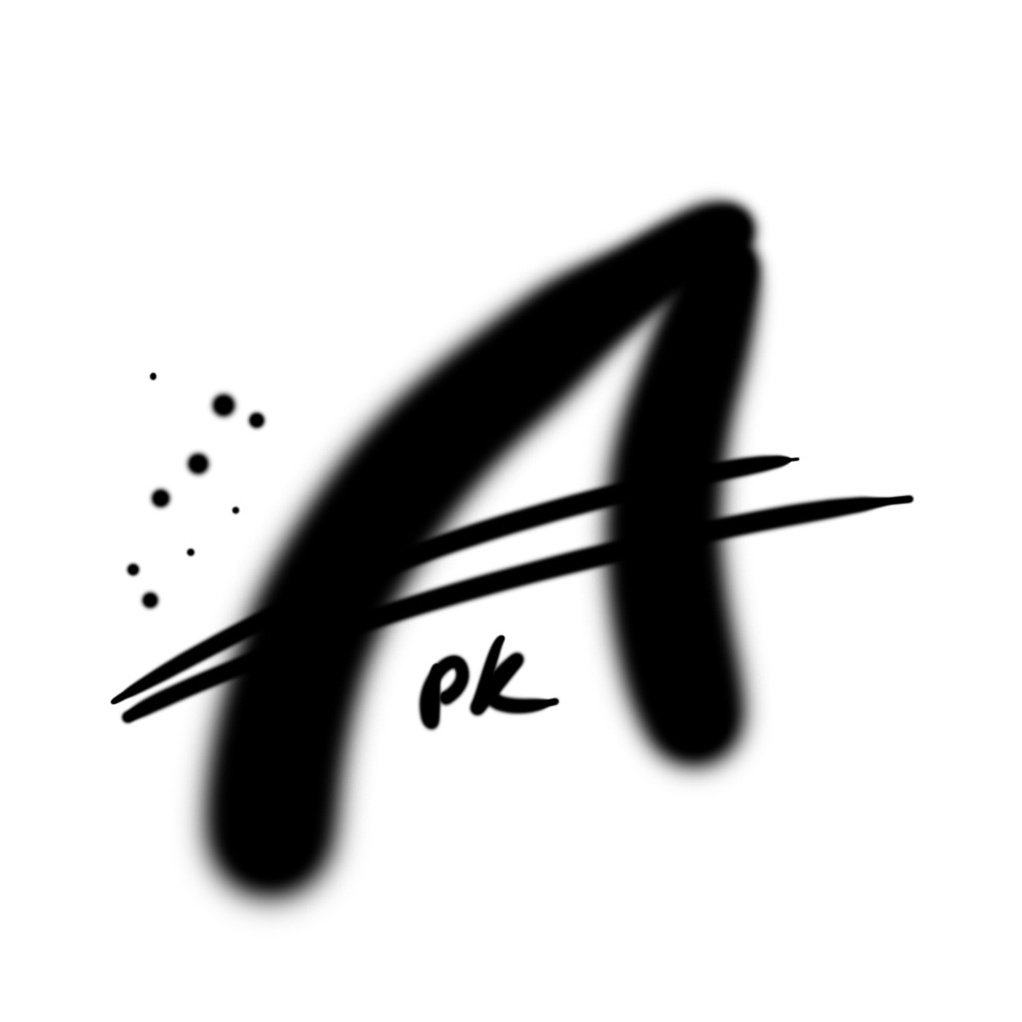Фантастические существа и места их обитания
Часть первая «Театр родился на площади»
Внутренняя драматургия V Фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Театральная осень. Играем классику» сложилась так, что в субботу 13 сентября в афишу попали два ТЮЗа с двумя сказками: для детей и для взрослых.

Текст: Наталия Крылова, фото: М.Никитин
Один театр приехал на фестиваль из Ташкента, другой – из Минска. Оба привезли спектакли по произведениям, впечатанным в культурный код русскоязычного зрителя – «Сказку о царе Салтане» Пушкина и «Мастер и Маргариту» Булгакова. В обоих спектаклях на сцене сосуществуют персонажи разной природы, а артисты взаимодействуют с зрительным залом.
«Сказка о царе Салтане»
«Мастер и Маргарита»
Государственный Молодежный театр Узбекистана из Ташкента показал спектакль для детей «Сказка о царе Салтане» по А. С. Пушкину в постановке Анвара Картаева.
Раздалась громкая музыка, и сидящие в зале Национального театра Карелии зрители вздрогнули. Сцена вспыхнула огнями, на неё вывалила огромная толпа шумных скоморохов в пёстрых ярких одеждах. Они преувеличенно бодро запели и заплясали: северная публика в недоумении вжалась в кресла. Но ровно через час спектакль завершится подобной же мизансценой, и зрители будут с любовью следить за артистами и с восторгом им аплодировать. Что произошло за этот час? Как узбекским артистам удалось договориться с залом об условиях игры и захлестнуть его игровой стихией?
Раздалась громкая музыка, и сидящие в зале Национального театра Карелии зрители вздрогнули. Сцена вспыхнула огнями, на неё вывалила огромная толпа шумных скоморохов в пёстрых ярких одеждах. Они преувеличенно бодро запели и заплясали: северная публика в недоумении вжалась в кресла. Но ровно через час спектакль завершится подобной же мизансценой, и зрители будут с любовью следить за артистами и с восторгом им аплодировать. Что произошло за этот час? Как узбекским артистам удалось договориться с залом об условиях игры и захлестнуть его игровой стихией?

Анвар Картаев делает ставку на природу ярмарочного театра. Этот театр с легкостью вбирает в себя любые выразительные средства, апробирует и поглощает любые формы и делает своими возможности любого сценического языка. На ярмарке средством художественной выразительности может стать и танцующий медведь (в спектакле это белочка), и петрушечник с куклой (куклу царицы с приплодом закатывают в бочку), и шарманка с картинками (именно так линейно – справа налево – движутся на арьерсцене плоские богатыри), и лубок (условные декорации), и олеография (пышные царские костюмы). Всяко лыко в строку.

Спектакль будто бы рождается здесь и сейчас. Бродячие артисты выбирают, что играть: ярмарочный театр идёт от зрителя, а в зале много детей, причём детей современных… Из общей толпы к тому времени выделяются трое лидеров, которые вспоминают сказку «Теремок». Но будущая Няня (Лейла Сейд-оглы), вглядываясь в зал, не соглашается с выбором: «У нас тут не детсад». Вот тогда и зарождается идея сыграть сказку Пушкина, но как? Будущий Салтан (Евгений Москвичев) придумывает неожиданный ход: «Чтобы Пушкина сыграть, надо Пушкина …создать».

Саша Пушкин (Дониёрхон Рахматов)
Из толпы выбирается подвижный кудрявый артист в белой рубахе (Дониёрхон Рахматов), перевоплощение его условно – домашний жилет и перо. Есть у него и самая настоящая кафедра, но Саша Пушкин слишком пылок, чтобы стоять за ней, и в течение действа не раз пытается лично помочь движению сказки вперёд. В помощь Саше – скорее, чтобы сдерживать его порывы, – выбирают Арину Родионовну: Лейла Сейд-оглы надевает чепец, спектакль встаёт на рельсы и катится, словно по маслу.

Арина Родионовна (Лейла Сейд-оглы)
В репертуаре Государственного молодёжного театра Узбекистана есть спектакль «Пушкин жив» по биографии поэта, и видно, что труппа отлично разбирается в теме и хорошо знает, что делает. Вот юный Пушкин придумывает «У Лукоморья дуб зелёный…», а Няня ему укоризненно говорит: «Лукоморье – нет такого слова, Саша». Но зрители-то от мала до велика знают, что есть, и Пушкин становится им ещё ближе.
Видя будущую Царицу (Анна Петяева) с коромыслом, Рахматов-Пушкин сам потрясён тем, как складно просит Няню: «Спой мне песню, как синица… тихо за морем жила… спой мне песню, как девица… за водой поутру шла». От слова «девица» и рождается «Три девицы под окном…». На сцене закручивается весёлая творческая карусель, где картинка не только иллюстрирует текст, но и сама становится поводом для него.
Видя будущую Царицу (Анна Петяева) с коромыслом, Рахматов-Пушкин сам потрясён тем, как складно просит Няню: «Спой мне песню, как синица… тихо за морем жила… спой мне песню, как девица… за водой поутру шла». От слова «девица» и рождается «Три девицы под окном…». На сцене закручивается весёлая творческая карусель, где картинка не только иллюстрирует текст, но и сама становится поводом для него.

Пушкин и Няня - парный конферанс этого спектакля, слуги просцениума в мейерхольдовском понимании: не те, кто выполняет чисто технические функции, но кукловоды, маги и демиурги, творцы сценической реальности. Весь спектакль крутится вокруг акта созидания и вольной импровизации, открытого выражения эмоций и тесного взаимопонимания с публикой и – несмотря на линию рампы – отсутствия всяких барьеров. Четвёртая стена снята, текст сокращён и упрощён, но и отсебятина, и неловкости, и ошибки в этом сценическом тексте кстати. Так Няня-Сейд-оглы дважды отправляет молодых на кровать слоновой кости – до пира и после, но и это помогает спектаклю: зрители только рады за Царя с Царицей. Если Саша полностью поглощён выдумыванием сюжета, то Няня дополнительно выполняет и функции Хора, становясь ещё и посредником между залом и сценой, между Пушкиным и скоморохами.

Приём обновляет пушкинский текст, заставляет его звучать свежо и актуально. Главной темой спектакля становится сам акт творчества, который включает в пространство спектакля и зрителей. И получается, что публика уже не просто присутствует при рождении сказки, а становится её сотворцом. Это живой театр «здесь и сейчас» с открытыми реакциями и живыми диалогами. Но как только зрители полностью приняли условия игры (то есть, публика полностью завоёвана, стоит вкруг палатки, открыв рты, и никуда не уйдёт, пока представление не закончится), начинается то, ради чего бродячие труппы и приходят на ярмарочную площадь: за продолжение надо платить. И в каждом месте, где это возможно, Няня вставляет: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец». И зал платит – не монетками, а смехом и аплодисментами – и ещё больше, ещё глубже вовлекается в действо.

Царь – главный характерный и сатирический персонаж этой истории. Если Пушкин и Няня – кукловоды, то он – их Петрушка. Его способ существования, его пластика, мимика отличаются от остальных героев. Он смешон и нелеп буквально в каждой сцене: едет ли он на войну, читает ли по слогам письмо, встречает ли купцов… Тут вообще часто улыбаются, но на устах персонажа Евгения Москвичёва улыбка всегда. Как у Петрушки. И это производит комический эффект. Комар Гвидон летит повидать отца и якобы «видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате на престоле и в венце, с грустной думой на лице», между тем Царь сидит и по-дурацки улыбается. «Кто я: царь или дитя?» перед поездкой к Гвидону грозно вопрошает Царь, и Повариха с Бабарихой (Нилуфар Алиерова и Анастасия Ниязова) кивают: «Царь, царь…», а то время как Ткачиха (Афсона Азимова) уверяет: «Дитя…». Зрители сочувствуют Гвидону (Артур Гибадулин) и его матери, но смеются над Салтаном – так надо по законам этого театра.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Спектакль – это действие, дело, и тройной повтор тут не нужен: Гвидон-комар за один полёт узнаёт о всех трёх чудесах, кусает всех троих родственниц и возвращается к Царевне-лебеди, обременённый тягостной думой.
Критики Наталья Жемгулене и Полина Никитина обратили внимание на некоторые несоответствия способа существования актёров: кто они – скоморохи или воображение Пушкина и Няни?
Интересно посмотреть, как включает режиссёр в сценическую реальность спектакля фантастические существа. Все волшебные герои наделены особой сценической пластикой и голосоведением. Белочка (Александра Цхай) – в отличие от остальных чудес явлена не на специальном помосте в глубине сцены, а перед ним, но она поёт – единственная в спектакле – и танцует свой особый танец.
Критики Наталья Жемгулене и Полина Никитина обратили внимание на некоторые несоответствия способа существования актёров: кто они – скоморохи или воображение Пушкина и Няни?
Интересно посмотреть, как включает режиссёр в сценическую реальность спектакля фантастические существа. Все волшебные герои наделены особой сценической пластикой и голосоведением. Белочка (Александра Цхай) – в отличие от остальных чудес явлена не на специальном помосте в глубине сцены, а перед ним, но она поёт – единственная в спектакле – и танцует свой особый танец.

Черномор (Улугбек Абдурахимов)
Плоские богатыри, в такт шагам машущие руками, существуют строго за выделенным возвышением на арьерсцене. Вперед дано выйти только Дядьке Черномору (Улугбек Абдурахимов). И его возвращение в строй рождает ещё один комический эффект: в то время, как богатыри продолжают мерно идти налево, Черномор уходит вправо, то есть перестаёт быть их предводителем.
Но главным чудом представления становится Царевна-лебедь. Не то что её лицезрение, но даже рассказ Бабарихи о ней при царском дворе и заморских купцах ввергает всех присутствующих в транс. Это Принцесса Грёза, недостижимая мечта. Когда она является Гвидону, это происходит не за и не перед, а на помосте – на возвышении. Её пластика и голосоведение вполне описано пушкинской строкой «А сама-то величава: выступает, словно пава, а как речь-то говорит: точно реченька журчит». И только когда она соглашается выйти за Гвидона, сходит в мир с помоста. Но остаётся особенной. Прибывший Салтан показывает глазами сыну: «Ты – и она?». – и не может этому поверить. Но такой уж это чудный град, что там возможно всё.
Но главным чудом представления становится Царевна-лебедь. Не то что её лицезрение, но даже рассказ Бабарихи о ней при царском дворе и заморских купцах ввергает всех присутствующих в транс. Это Принцесса Грёза, недостижимая мечта. Когда она является Гвидону, это происходит не за и не перед, а на помосте – на возвышении. Её пластика и голосоведение вполне описано пушкинской строкой «А сама-то величава: выступает, словно пава, а как речь-то говорит: точно реченька журчит». И только когда она соглашается выйти за Гвидона, сходит в мир с помоста. Но остаётся особенной. Прибывший Салтан показывает глазами сыну: «Ты – и она?». – и не может этому поверить. Но такой уж это чудный град, что там возможно всё.

Гвидон (Артур Гибадулин)
В финале Няня называет Пушкина уже не Саша, а Александр, признавая, какую мощную сказку ему (им вместе) удалось создать. И скоморохи заканчивают своё представление, все персонажи вливаются в общую толпу и вновь танцуют радостной гурьбой. Но зрители уже вовлечены в представление и стали частью действия. На аплодисментах возникает редкая атмосфера принятия. Юмор, сатира, жизнерадостность площадного представления победили северный зрительный зал.

Напоминаем, что «Арка» проводит конкурс зрительского отзыва.
20 сентября включительно вы можете прислать отзыв на любой спектакль фестиваля (ссылка на афишу фестиваля) в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самого лучшего текста будет награждён призом от редакции и фестиваля.
20 сентября включительно вы можете прислать отзыв на любой спектакль фестиваля (ссылка на афишу фестиваля) в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самого лучшего текста будет награждён призом от редакции и фестиваля.
События