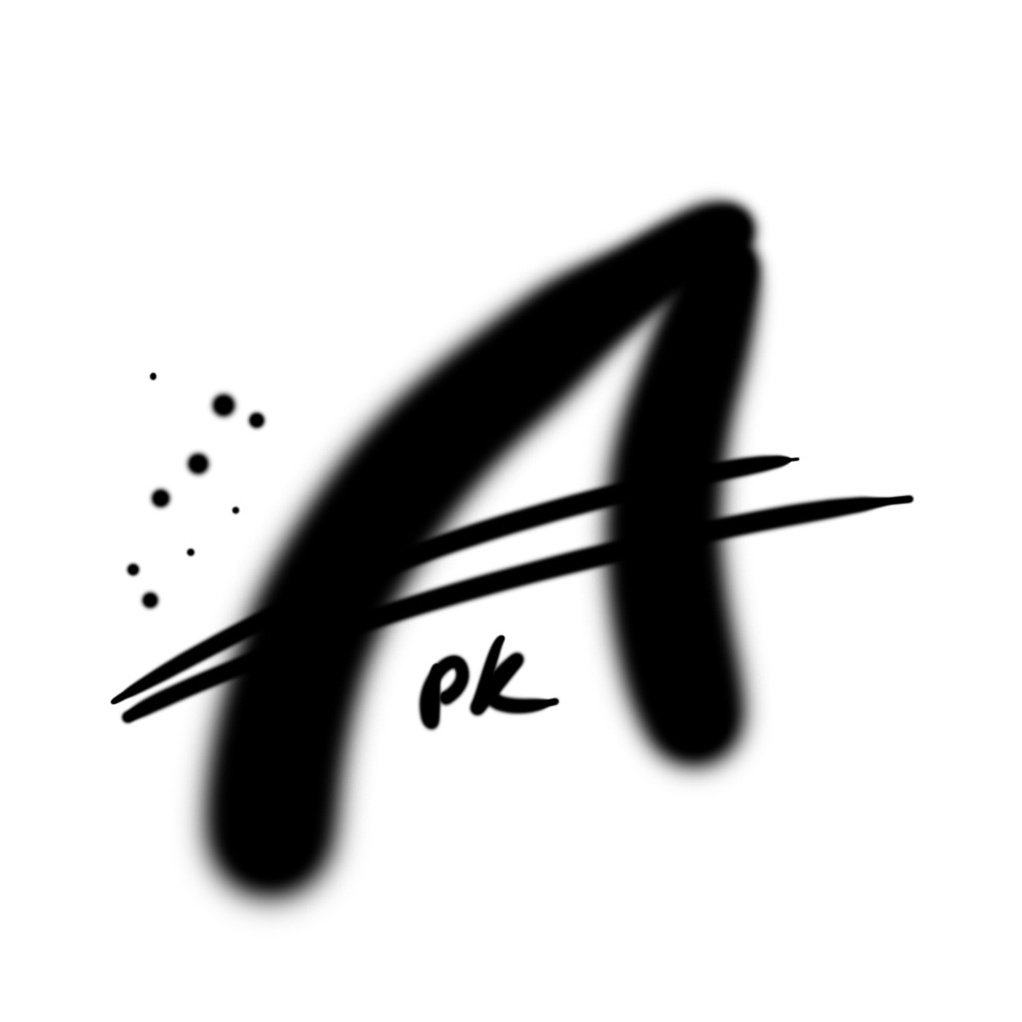Неоклассический сюжетный балет «Маскарад» не случайно стал хэдлайнером фестиваля современной хореографии. Выразительность «Маскарада», как и других спектаклей Кирилла Симонова, рождается на стыке элементов классики с современными танцевальными техниками. Балетные традиции переосмысляются хореографом здесь и сейчас. Он смело заходит на территорию эксперимента, тяготеет к обновлению формы, ищет современные выразительные средства не только в танцевальном арсенале, но и за его пределами: в частности, в пластике фигурного катания.
«Маскарад» Кирилла Симонова – ещё один ballet à grand spectacle, где художественная выразительность создаётся не только за счёт танцевальной лексики, но и говорящего сценического пространства, изысканных костюмов, яркой характерности персонажей, светового, музыкального и режиссёрского решения, единой стилевой выдержанности всех составляющих постановки и толики авторской иронии.
Уже с выразительных колонн «Ромео и Джульетты» субъекты и объекты спектаклей Симонова – живое и неживое – словно сплетаются в единое сценическое полотно постановки. Всё, что движется на сцене «Маскарада», – не только артисты балета, но и плафоны, диваны, лифты, занавеси и т.д. подчиняется единому ритму и тоже становится элементами танца. В то время как механистичные движения синхронного кордебалета с их характерными взмахами рук, напротив, уподобляются предметному миру и, словно хронометры, отсчитывают время трагедии. В стремительности движений классическая балетная пластика обобщается до символа, а психологически оправданные жесты и мимика вырастают до условности и стилизации. Межличностный конфликт «Маскарада», реализованный в сольных па-де-де и па-де-труа, расцветает на фоне бытования конфликта социального: тут никому ни до кого нет дела.
Место действия – как у абсурдистов: персонажи находятся в замкнутом пространстве на огромном тихоокеанском лайнере. И сколь бы ни было велико судно, герои принуждены постоянно встречаться друг с другом на палубах, за карточным столом, в бальном зале, в барах, коридорах и переходах. С этого «Титаника» деться некуда. Интерьеры тут роскошны, но холодны и равнодушны к любовным страстям. Как и люди.
Занавес открывается под музыку знаменитого вальса Хачатуряна, который становится не только увертюрой, но и лейтмотивом балета. Открывшийся мир тревожен: висящие на авансцене прозрачные цепи создают ощущение морской качки. В ритм цепям качаются стюарды у шезлонгов с загорающими леди. Стоящий у берега лайнер, как в тике, бьёт приливной волной. На палубе суета, бегают слуги с коробками и шляпными картонками, группа прекрасно одетых молодых людей со смехом примеряет спасательный жилет. В светлом – Нина (солистка балета Театра имени Сац Варвара Серова). Пластический рисунок сразу выделяет её: она то медлительно-задумчива, то порывисто-нервна.
Интригу закручивает грустный клоун Шприх (заслуженный артист Карелии Дагба-Доржо Гармаев): в котелке Марселя Марсо, со слезинкой на щеке. С его сольного танца и начинается игра любви и случая, кульминацией которой становится смерть: «История самая обыкновенная – кто-то любил, кто-то страдал, кто-то кого-то убил». За карточным столом Шприх обыгрывает Звездича (Антон Дьячок), затем его в помощь Звездичу обыгрывает Арбенин (солист балета Театра имени Сац Дмитрий Круглов). Будущие антагонисты уходят вместе, вероятно, в бар. И с этого момента их судьбы начинают разниться: Звездичу везёт и в картах, и в любви, Арбенину же – наоборот.
Первый дуэтный танец Нины и Арбенина – гимн любви. Бережные поддержки Круглова, горделивая осанка Серовой: на руках Арбенина Нина летит над толпой как редкая птица. Она полна своими чувствами, наслаждается ими, даже торжествует. Любя танцевать, Нина-Серова танцует с удовольствием. В ней вообще всё с избытком, радость Нины льётся через край, как у ребёнка: Серова точно отыгрывает каждую мимолётную эмоцию своей юной героини.
Звездич – несомненная удача Антона Дьячка: партия безукоризненно станцована, точна и драматически наполнена. Встреча Штраль со Звездичем кажется почти закономерностью. Дуэт Звездича и Баронессы под галоп Хачатуряна ироничен, их движения игривы и насмешливы. Но и Нина присоединяется к ним и копирует парочку так несвойственных ей язвительных па.
Как не похожи баронесса Штраль и Нина, так отличаются пластическим рисунком Звездич и Арбенин: Звездич – лёгок, подвижен, увёртлив, как и положено игроку, Арбенин – серьёзен, брутален, монолитен и даже монументален. Когда он сидит, широко расставив колени и положив на них тяжёлые руки, он выглядит как отдыхающий лев, король прайда. Кстати, это ещё и поза Позднышева из «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого: «Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? – сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями».
В двух составах Арбенины разные: Дмитрий Круглов уже выходит на сцену как трагический герой. Между его персонажем и Ниной-Серовой всё время чувствуется напряжение, словно натянута нить, которая рвётся только со смертью Нины. И зал вынужден сочувствовать не только Нине, но и его Арбенину. В то время как второй исполнитель роли Денис Матюк с самого начала намного холоднее, жёстче, и его партнёрше Юки Окоти приходится любить за двоих, что и делает лиричнейшая солистка. Окоти в этой партии свойственен выразительный графичный рисунок роли, точно выраженная эмоциональность и глубокий внутренний драматизм.
Играя и любуясь своими браслетами, Нина оставляет один из них в салоне на диване. Его тут же подхватывает Баронесса и кидает Звездичу в качестве своего: «Это случайный случай, и он говорит нам о жизни больше, чем правильный ход вещей». Гордясь победой, Звездич на ходу показывает браслет Арбенину, и в том тут же словно что-то ломается.
Кирилл Симонов умеет ставить любовные треугольники – истинные или мнимые. В его постановках выразительными и переломными моментами часто становятся па-де-труа. Нина-Серова светится от радости, когда потухший Арбенин-Круглов соглашается с ней танцевать, но тут же назойливо вертится Звездич-Дьячок, постоянно перехватывая Нину. Ничего не знающая Нина идёт по нитке взгляда Арбенина, то и дело оглядывается на мужа. Варвара Серова ведёт свою танцевальную и пластическую линию, не теряя наполненности образа, а прибавляя всё новые и новые оттенки.
И вот проходят мимо, болтая друг с другом, ничего не замечающие игроки с крокет. Размахивает маятниками руками как метроном безучастный свидетель трагедии кордебалет. Пробегают стайкой разгоряченные девицы, хватая на бегу своё мороженное. Извернувшись, как змей-искуситель Еве, подаёт Нине её последнее мороженое и Арбенин.
В финале трагический танцевальный образ Нины вырастает из музыкального и взаимодействует с ним: выражением внутреннего мира становится рапсодия Хачатуряна для скрипки в исполнении артистки оркестра Марии Давыдковой. Классический танец босой Нины обогащается свободной пластикой и элементами контемпорари данса.
В первом акте Нина поправляет причёску, глядя в зрительный зал, как в зеркало. Во время танца смерти в втором акте она несколько раз вырвется, в горячечном танце подбежит к самой линии рампы и всмотрится то ли в себя в зеркало, то ли в зал в поисках неравнодушного лица. И никого не найдёт. Но и умерев, Нина-Серова продолжает тянуть носок.
В спектакле потрясающий кордебалет. Вся история происходит на их глазах, но именно их безучастие и делает эту трагедию возможной. Если в «Анне Карениной» конфликт с окружающим миром выражался во всеобщем осуждении героини, то тут не только Шприх, Звездич и Баронесса, но и всё тесное общество, на виду у которого шаг за шагом, танец за танцем разворачивается драма, не только не осуждает, но и старательно отводит глаза.
И только когда Нина уже мертва, кордебалет просыпается. Приходит время наказания: группа мужчин перекидывает Арбенина друг другу, как мячик и, наконец, сбивает с ног. В отличие от Лермонтова, где «казнит злодея провиденье», здесь его сурово и неоднозначно казнит толпа. Арбенин считал, что равновесие нарушила Нина, но он потерял его сам. В начале балета качался весь мир, теперь шатает главного героя, и он делает нелепый кувырок через голову, сходя с ума.
А «Титаник» продолжает плыть навстречу своему айсбергу.
В этот раз «Маскарад» состоялся в день начала Ирано-Израильской войны.
--------
Обо всех событиях Nord Dance можно будет прочитать в "дневнике фестиваля" на сайте "Арки"