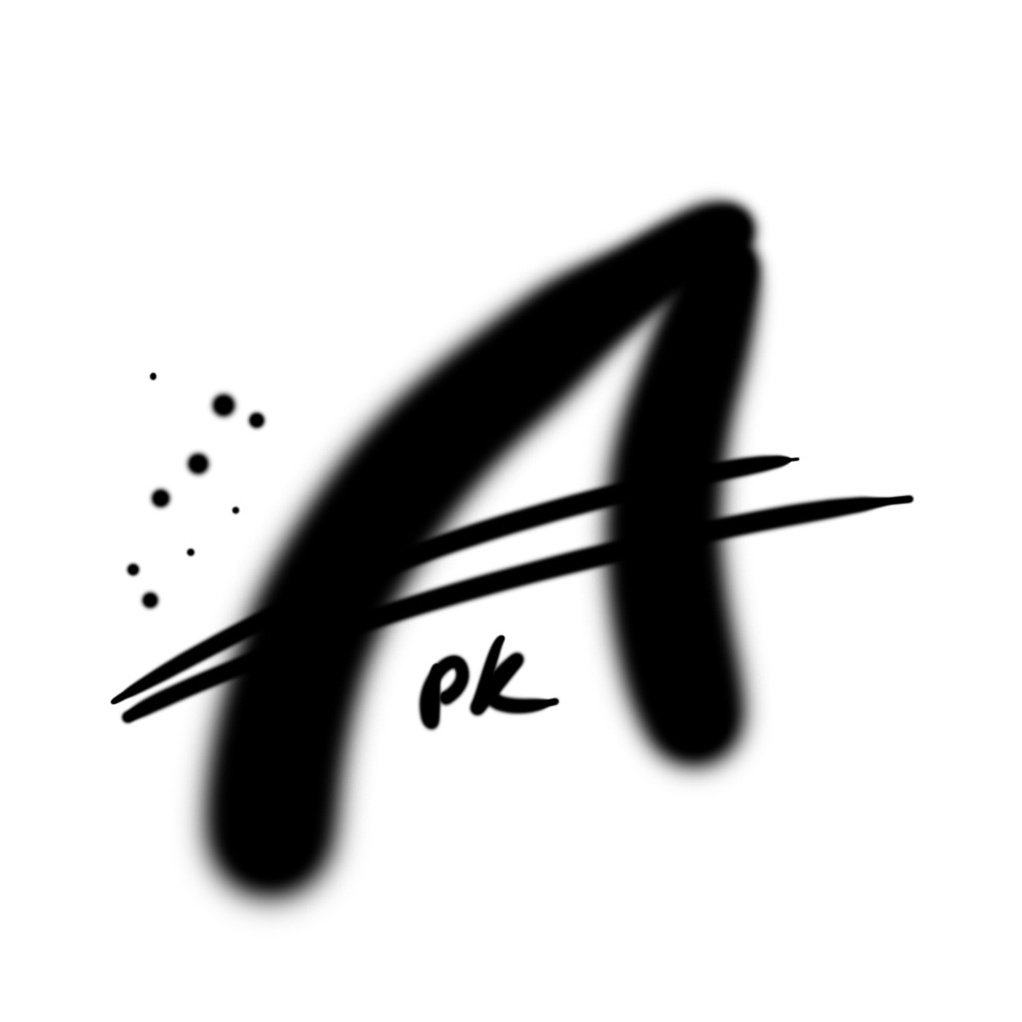Актриса и её Двойник
В завершающий день Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance местом единения артистов и зрителей стала Малая сцена Музыкального театра Карелии. Наталия Крылова – о постановках «Одоление» и «Секреты красоты», а также о «Манифесте к русскому перформансу». Дневник фестиваля закрыт!

Текст: Наталия Крылова, фото: М.Никитин
Все три спектакля – «Одоление» и «Секреты красоты» Анастасии Змываловой, а также «Манифест к русскому перформансу» Софьи Валиуллиной - исследовали темы истинного и ложного, сокровенного и публичного, подлинного и фальшивого.
Лишённая линии рампы камерная сцена, где публика сидела с трёх сторон в непосредственной близости от сценической площадки, дала тесный эмоциональный контакт артистов с залом, обеспечила максимальную вовлечённость зрителей в пространство спектаклей и, как оказалось, идеально соответствовала тематике постановок.
В спектакле «Одоление» Архангельского театра танца «М’Арт» хореограф Анастасия Змывалова для выражения своей идеи использует принципы контактной импровизации. И это работает! Смыслы постановки рождаются в процессе развития действия непосредственно из движения двух актрис – Валерии Белозерцевой и Наталии Краевой, которые становятся Олей и Яло в своём королевстве зеркал. Ни искажений, ни даже поверхностной ряби тут нет. Зато есть чистота приёма, которая не нуждается ни в мимике, ни в жестикуляции, ни в драматическом доигрывании. Всё просто: вес, взаимодействие, инерция, пластика…
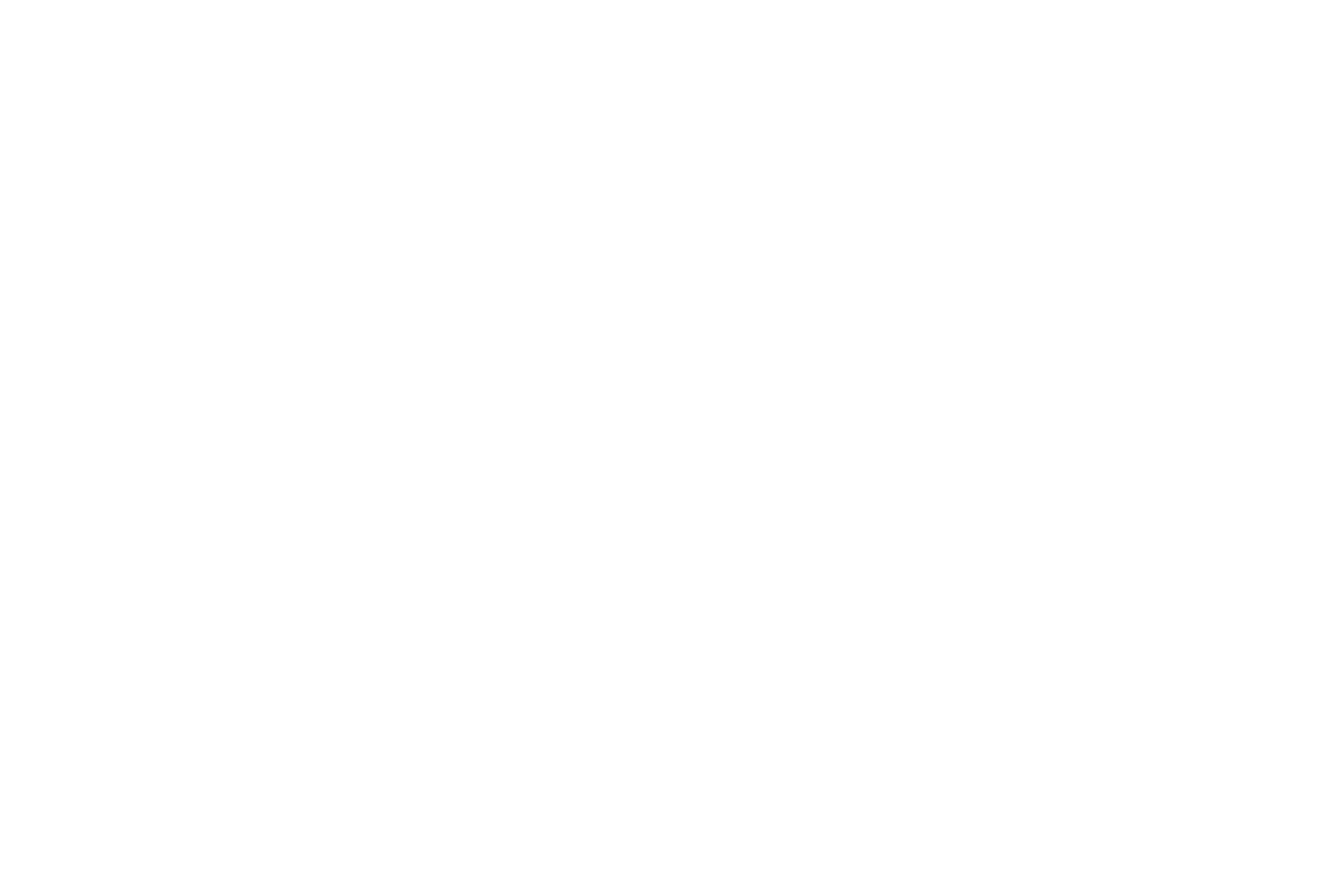
Из точки контакта развивается телесный диалог двух актрис с внятным лаконичным языком. За процессом становления семантики спектакля интересно наблюдать: технично выполняемые задачи, пара точных мизансцен, постоянное развитие, ни на секунду не провисающий темпоритм, обратные метафоры и – неожиданно при таком минимализме! – работа с объектом, когда в момент слияния волосы одной актрисы становятся продолжением волос другой.
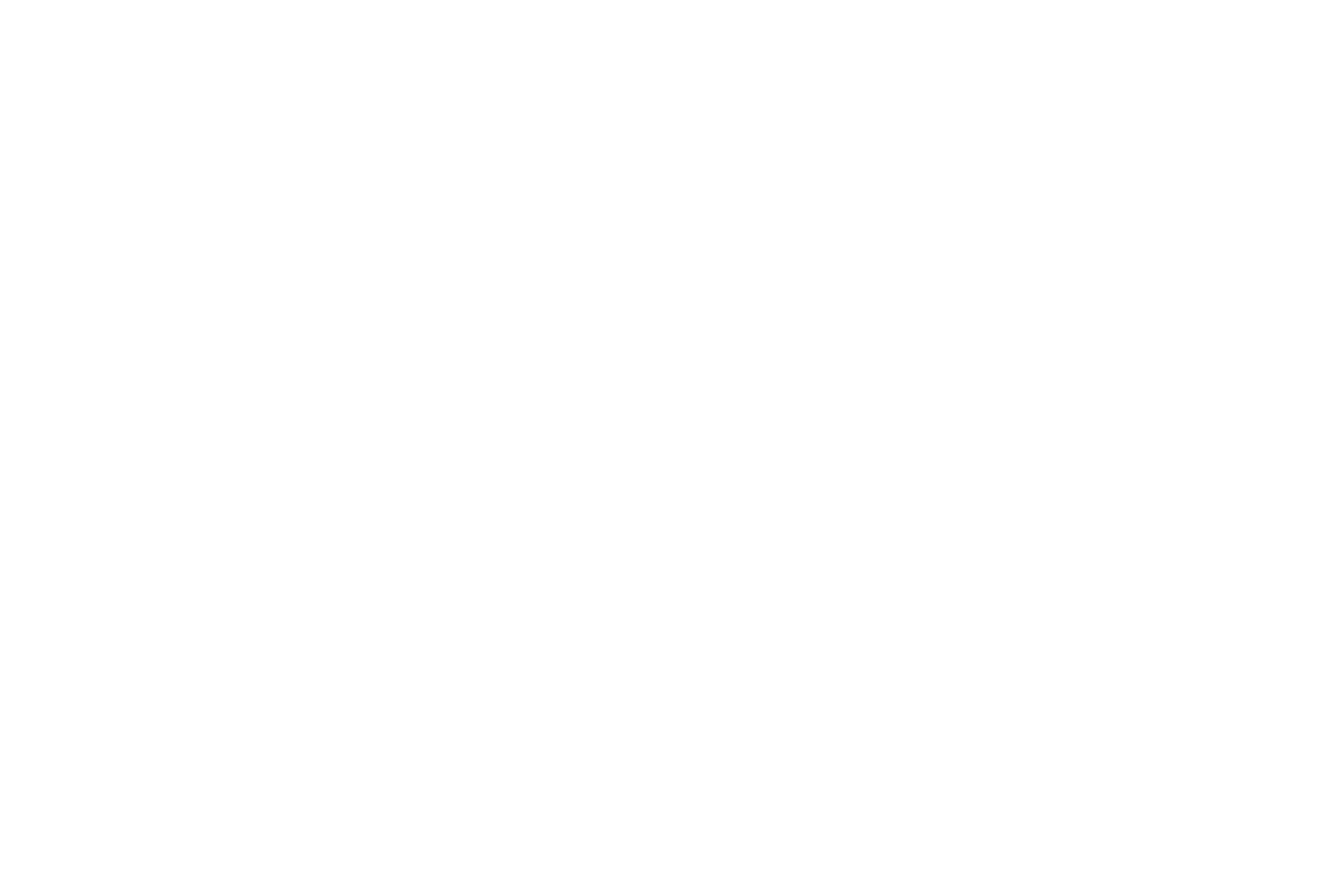
Высказывание хореографа считывается как борьба с самим собой: стремление достичь внутренней гармонии, не поступаться своими принципами, принять верное решение, решиться на что-то новое, но не потерять себя и так далее. Поле смыслов широко, но конкретно и узнаваемо: жизнь каждого человека – череда выборов, и состояние внутреннего раздрая всем известно. Благодаря общегуманистической проблематике (особенно актуальной сейчас) постановка попадает в каждого зрителя.
Иначе построен второй спектакль Анастасии Змываловой. Если в «Одолении» работало главенство пластики, а поглощённость взаимодействием, интимность и исповедальность постановки не предполагали ломки четвёртой стены, то в «Секретах красоты» пустое пространство сцены превращается в подиум, а четыре актрисы из субъектов спектакля – в его объекты. Наряду с музыкой, словами, звуками, светом и цветом.
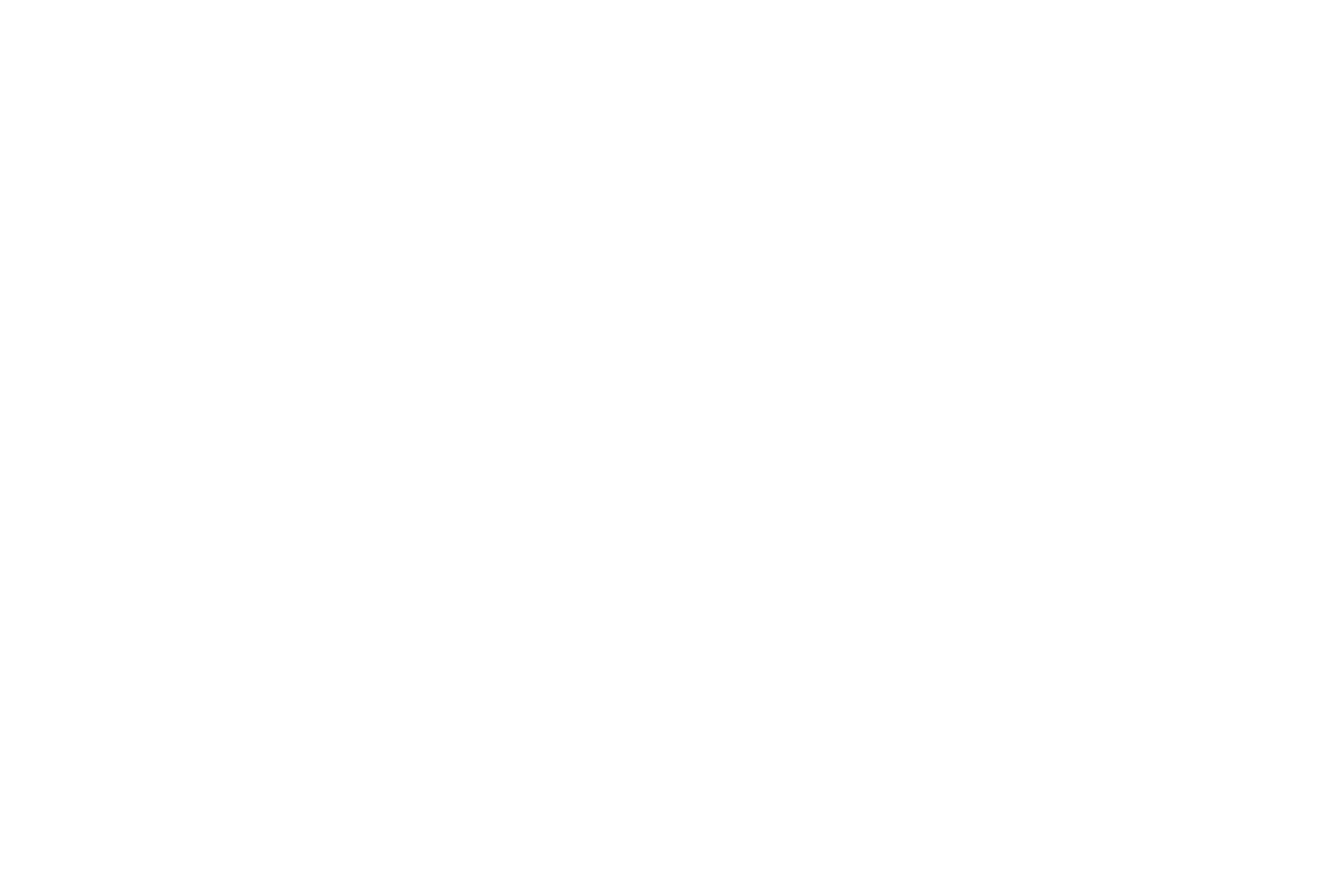
Здесь нет чётких образов, ярких характеров, индивидуально простроенных пластических рисунков. Модельный бизнес стирает личности людей, и живая человеческая пластика меняется на ломкую кукольную. Художественные символы решены в спектакле визуально. Обратные метафоры становятся прямыми: каждая актриса ищет своё место под солнцем, проходит огонь, воду и медные трубы. Как надежда, в самом финале появляется элемент контактной импровизации.
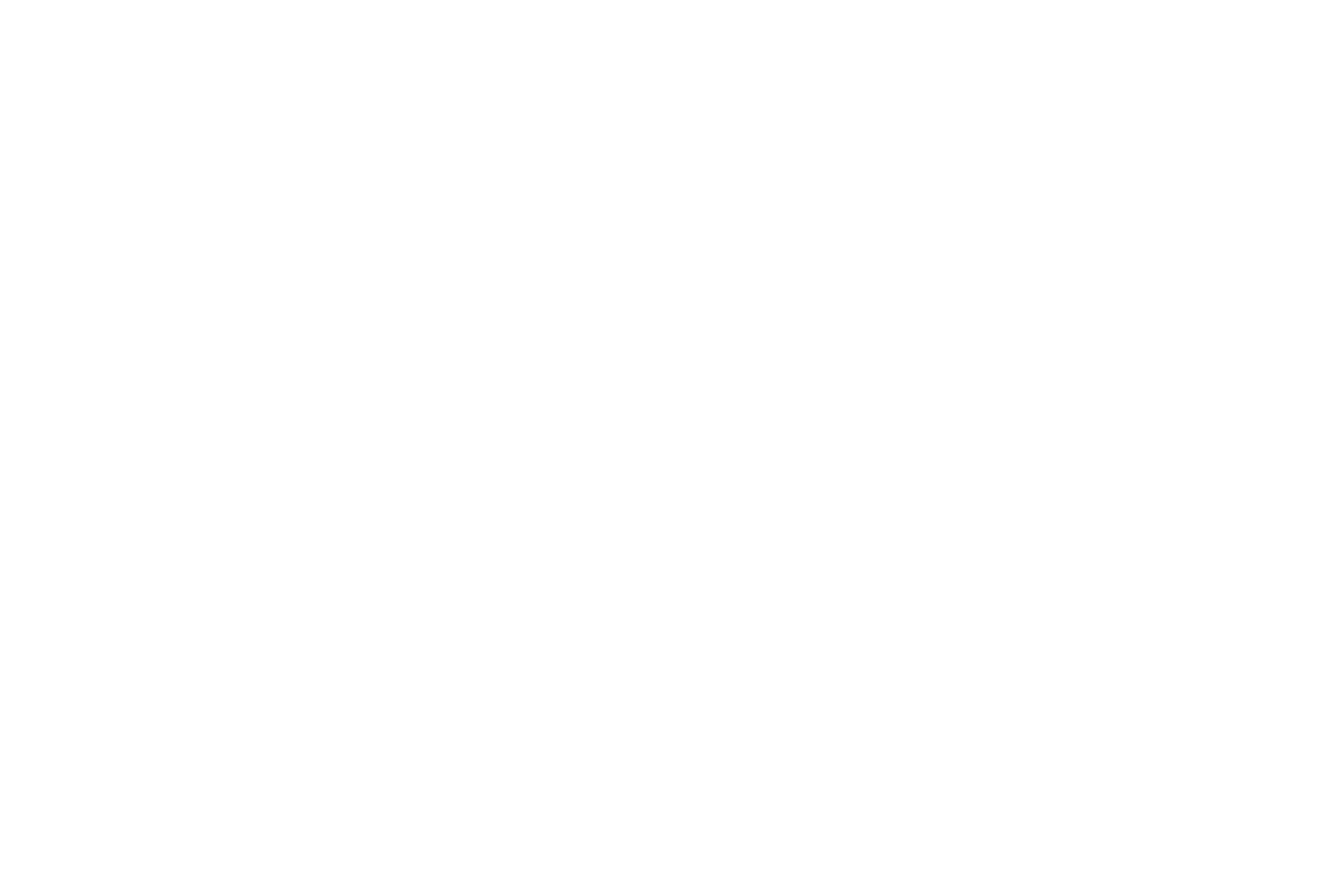
Мысль постановщика ясна, но она мало развивается, слабо обрастая деталями и новыми смыслами. Из-за того, что не до конца продуманы образы, стирается и грань перехода между моделью и человеком: «я для других» поглощает «я для себя». Но «Секреты красоты» – постановка недавняя и ещё будет расти.
Подарком для зрителей и концептуальным завершением фестиваля «Nord Dance» стал «Манифест к русскому перформансу» Софьи Валиуллиной. Представление началось с провокации: три раза прозвучала песня «Я тупой», прежде чем перформер обнаружила своё присутствие в зрительном зале. Но первыми словами актрисы стала фраза: «Это не я!».
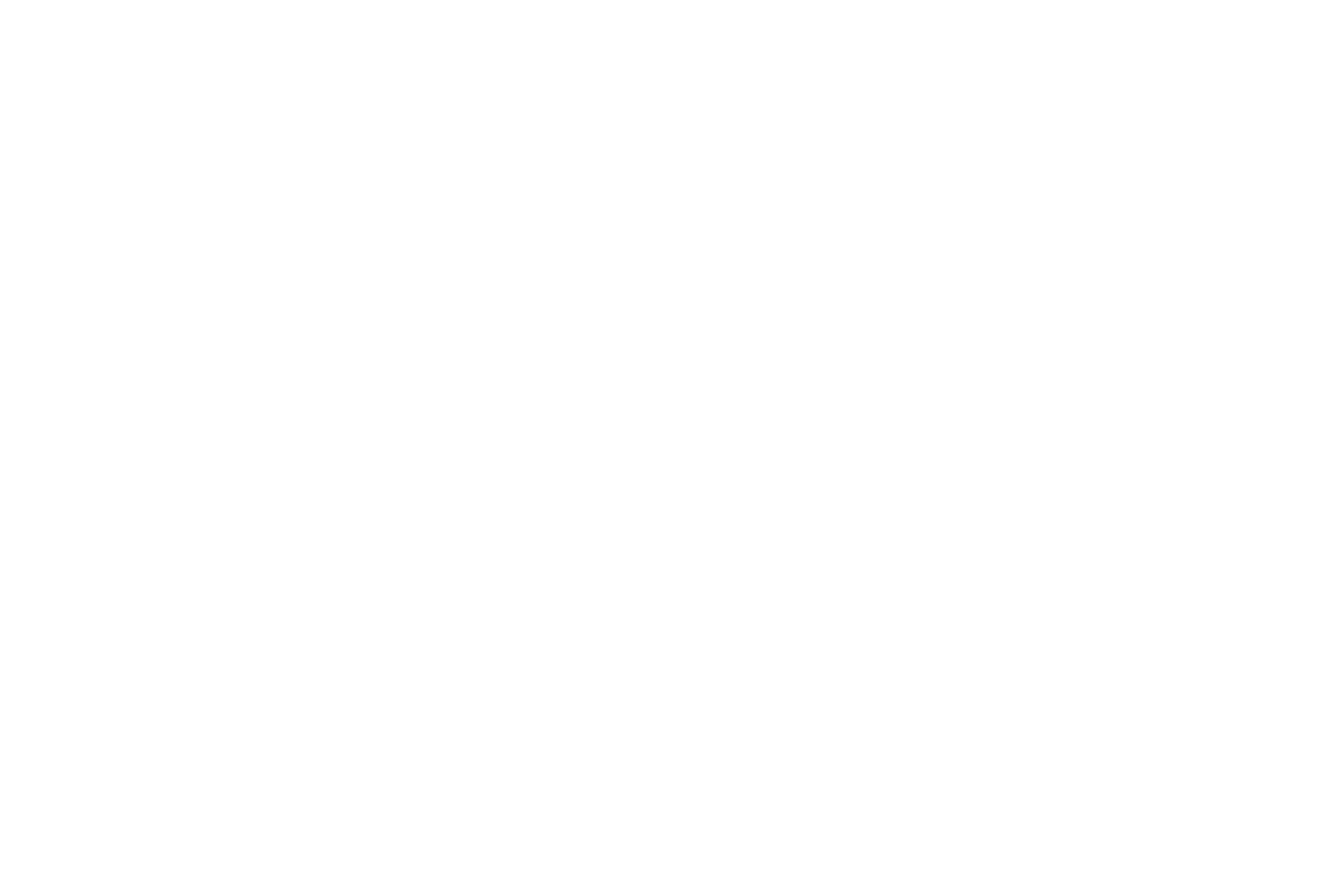
В нелепом жёлтом жабо, тёмных очках и кроксах, с полиэтиленовым чёрным пакетом в руках, уже пробираясь к сцене между рядами, перформер по-прежнему отказывалась выступать: то нижнее бельё надела не то, то аплодисменты тухлые. «Грубые, непосредственно действующие средства помогают в начале удерживать внимание зрителей», – писал Антонен Арто. Это так: зал принял Софью Валиуллину сразу.
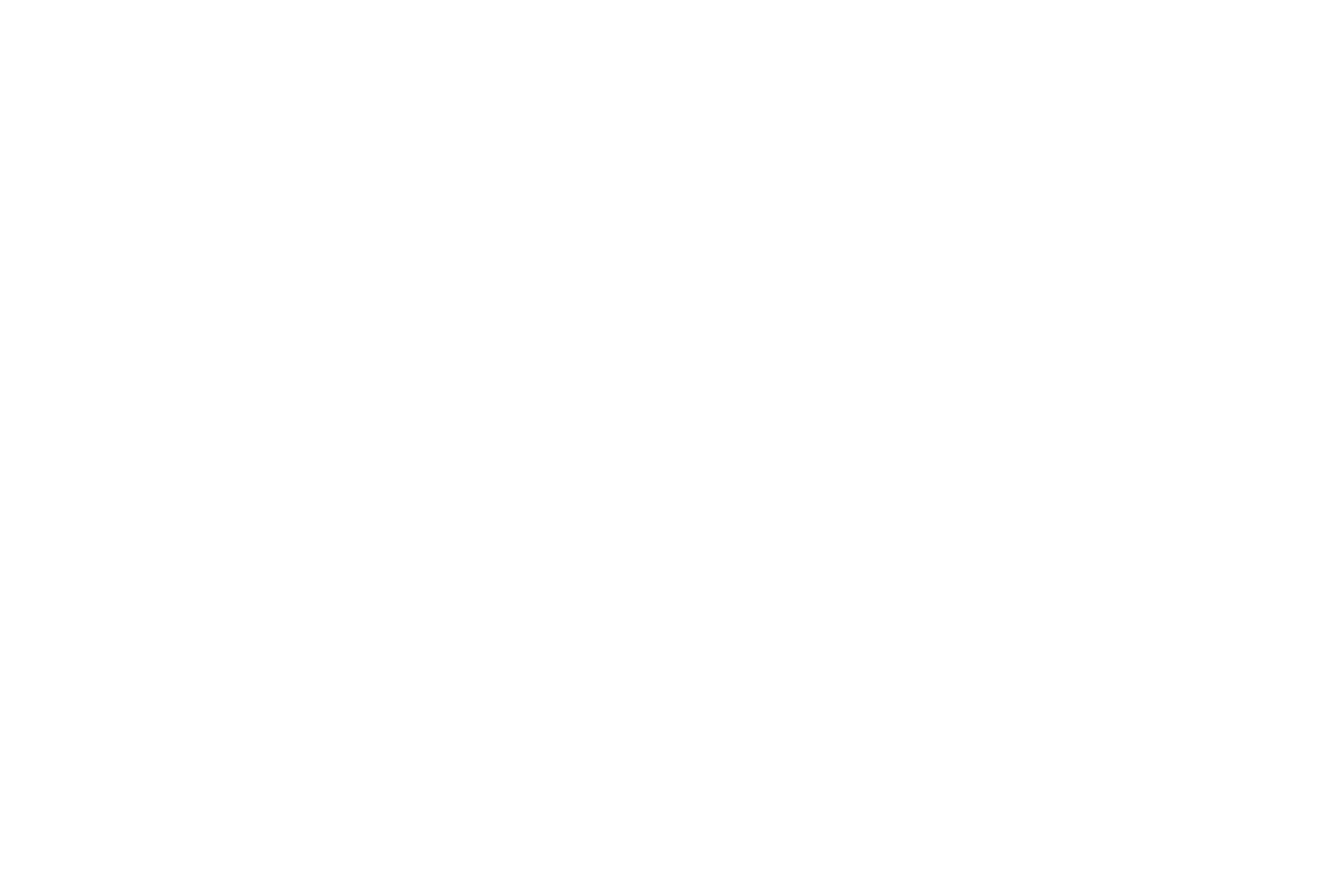
Как только актриса вышла в открытое пространство между зрителями, совершенно пустая сцена в третий раз за вечер поменяла своё назначение, превратившись в арену. Драйв актёрского существования Валиуллиной, владение импровизацией, умение слышать зал, мгновенно и точно реагировать на него и включать в свои репризы то, что происходит здесь и сейчас, заставляли зрителей слушать и слышать актрису – с восторгом, смехом, удивлением, почтением и уважением к её смелости…
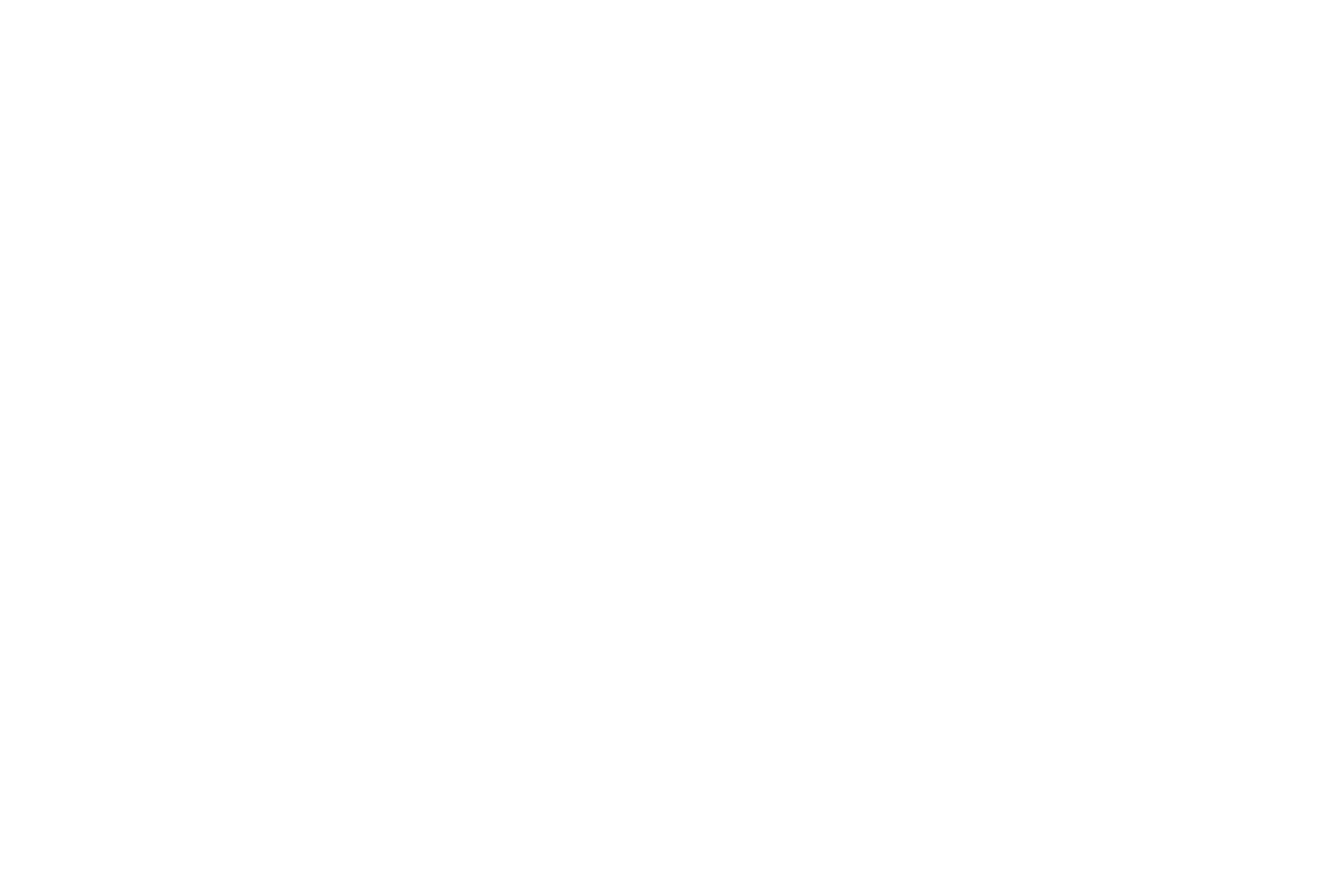
Надев для завершения сценического образа красные резиновые сапоги, своим резким тембром Софья бросает в зал «невыносимые истины» о современном русском перформансе – загадочном, непостижимом и страшно далёком от народа. Сетуя, что приходится работать на три стороны, продолжая своё ироническое программное заявление, танцуя, отдыхая, отвечая на реплики из зала, она равно держит зал: публика не сводит с неё глаз, не пропускает ни одного слова – колкого и острого, ни одного движения – пылкого и точного.
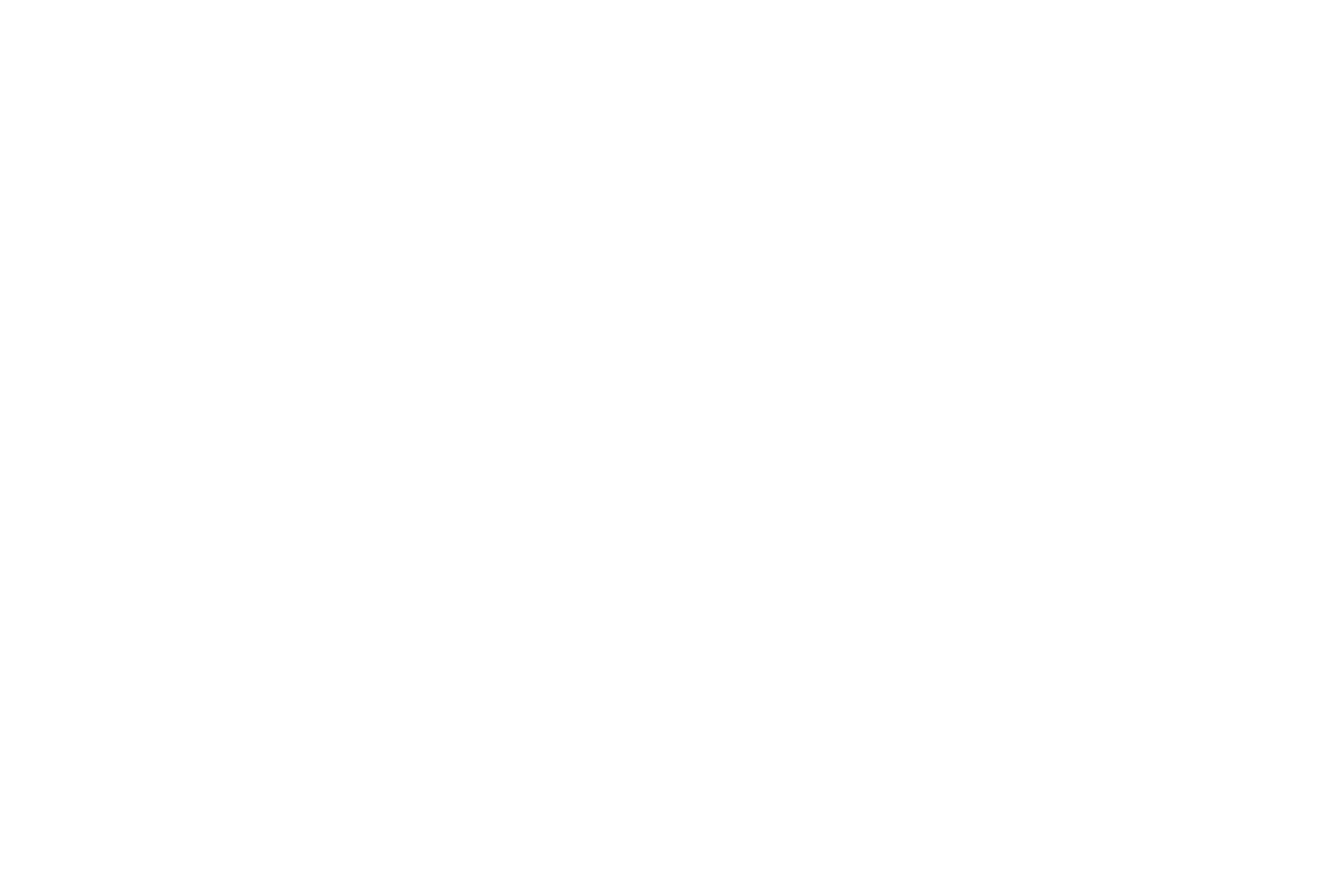
В чёрном пространстве Софья бьётся ярким пятном в Gaga Dancers и действительно выводит на сцену «страстную, содрогающуюся жизнь». Умный и искренний текст, продуманное и предельно честное исполнение, высокий градус актёрского существования, мелодика и интонации голоса, нисходящие метафоры, ёмкие сокращения «совртанец», «перфо» и даже песня про мужика с пакетом – всё работает на создание образа спектакля, всё в кассу. Это в буквальном смысле потрясающая работа перформера, режиссёра и танц-драматурга Татьяны Грибановой: по заветам Арто им удалось перевернуть культуру вверх дном и снова вплавить её в жизнь.
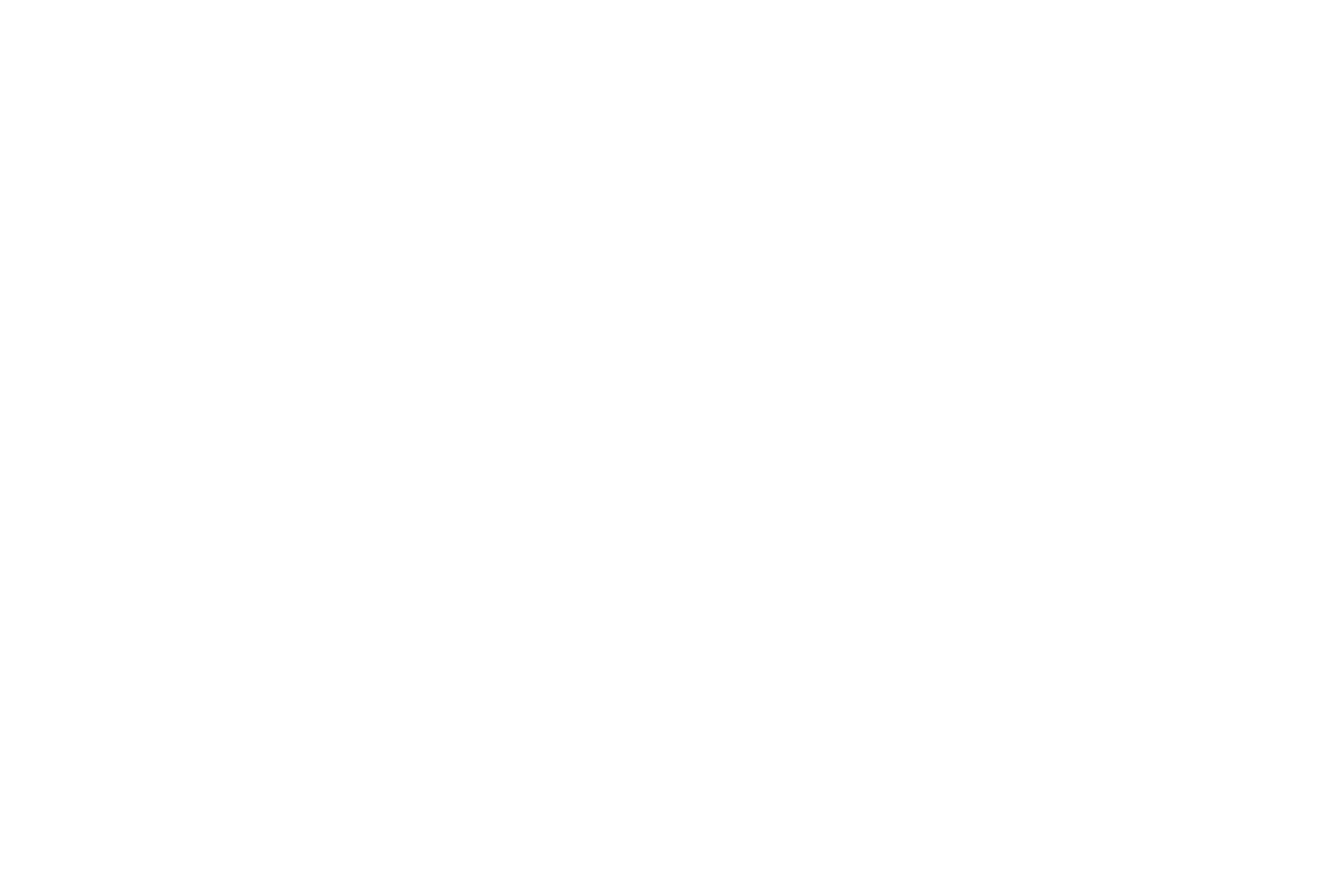
В финале актриса повторяет ту же фразу, с которой перформанс и начался: «Это не я», но теперь в ней другой смысл: Софья снимает очки, сапоги, переодевается и раздаёт свёрнутые чёрные пакеты, перевязанные ленточкой. Те, кто получил подарок, знают, что хотя пакет - вещь полезная, истинная сущность подарка – конфета (у которой тоже есть фантик).
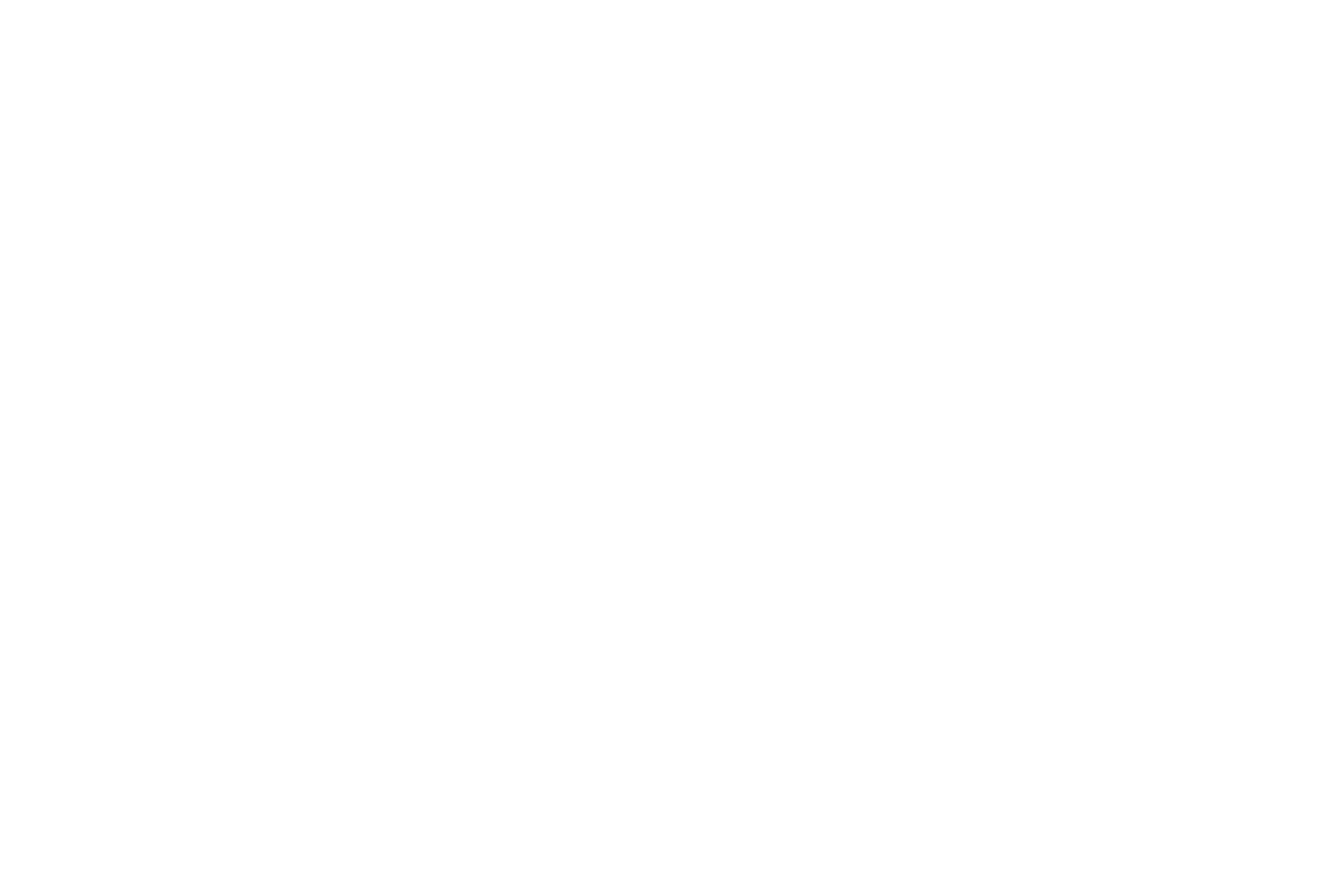
Эмоциональный резонанс и возникшая в зале атмосфера доверия способствовали тому, что на обсуждения спектаклей осталась треть зала. В процессе дискуссии артисты и зрители вышли на неожиданную проблему: на ком лежит ответственность за то, что именно было прочувствовано и понято при просмотре постановки: на перформере или на зрителе? Как вы думаете?
События