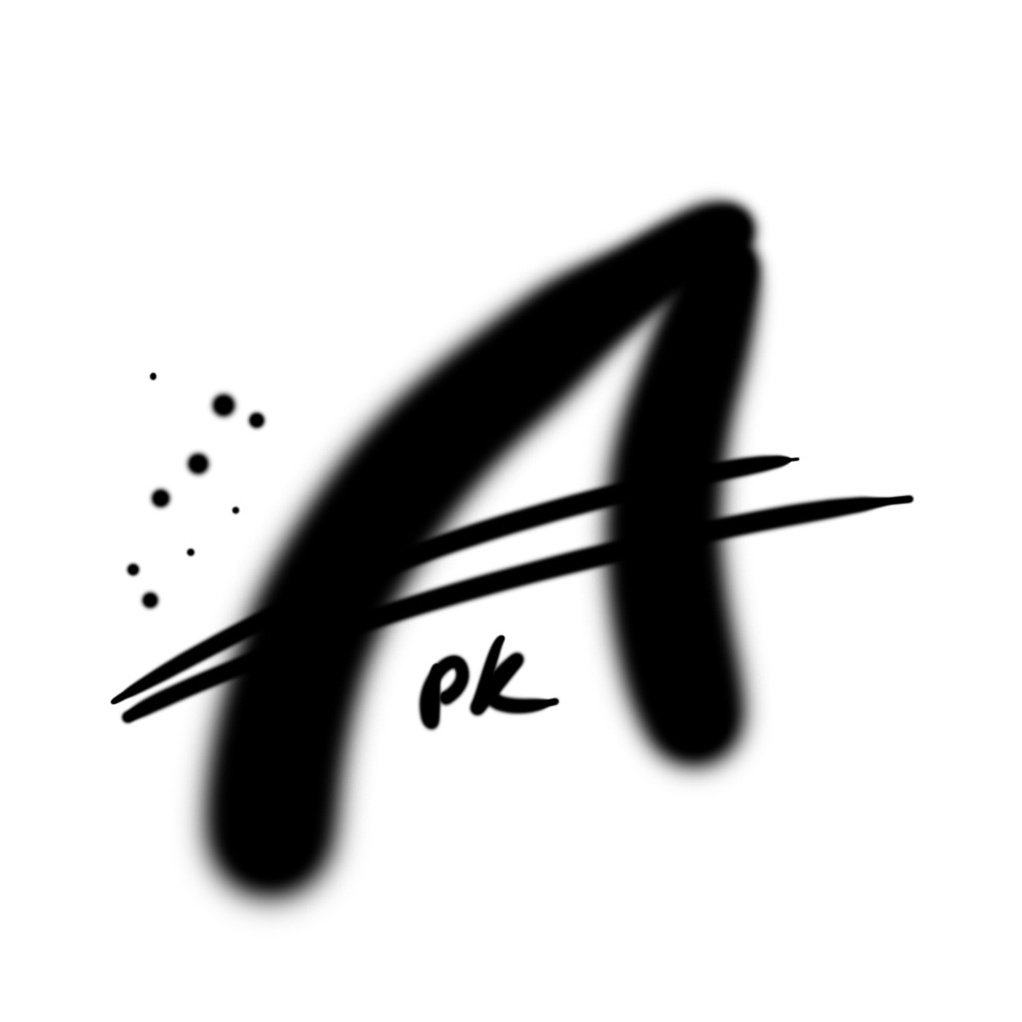«Осталось дойти до МХТ и сыграть Раскольникова»
Екатерина Юникова разговаривает с актером Даниилом Кашириным, сыгравшим в моноспектакле «1900-й», поставленном режиссером Владимиром Чухланцевым на Малой сцене театра драмы «Творческая мастерская».

Текст: Екатерина Юникова, фото: М.Никитин
Премьера спектакля «1900-й» прошла осенью 2025 года. Петрозаводские зрители познакомились с новым артистом, а сам актер Даниил Каширин попробовал наладить контакт с публикой «глаза в глаза». О том, как шла работа в сложном жанре моноспектакля, а также о том, насколько трудно бывает прийти в актерскую профессию и потом остаться в ней, - в нашей беседе.
— Как ты начал карьеру актера?
— В 2015 году я написал заявление на поступление в студию Олега Табакова. Прослушивание проходило в Петрозаводске, в колледже культуры и искусства. Мама сказала: «Это хороший вариант: проживание в центре Москвы в общежитии, педагоги крутые, кормят бесплатно». Готовой программы у меня не было, но я знал много стихотворений, в основном, Есенина.
На прослушивании нас было 10 человек. Кому-то давали задание: вбегай в холодную воду, при этом читая басню. Доходит очередь до меня. Я начинаю читать стихотворение, мне говорят: «Давай еще». Отвечаю: «Могу еще Есенина». Они: «Не надо, спасибо. Давайте прозу!» Начинаю читать прозу и сбиваюсь примерно на второй строчке. Басни у меня не было. Тогда попросили, по-моему, прочитать стихотворение как колыбельную для младшего брата. Я был уверен, что шансов у меня нет. Даже не стал ждать, когда объявят результаты. Догнали на улице: «Парень, ты куда? Ты прошел».
Вступительные испытания продолжились в Москве. Олег Павлович был только на третьем этапе. И как-то так получалось, что я проходил. Все ребята рядом очень крутые, но в себе я уверен не был. Видимо, подходил типажом. На втором туре хорошо прочитал стихотворение Сергея Есенина «Мне осталась одна забава…». Это было собирательное наблюдение от Безрукова, присвоенное себе. А на третьем этапе решил прочитать другое стихотворение, и, когда мне велели продекламировать его, я сделал это как-то не очень уверенно. В общем, в списке поступивших меня не оказалось.
Между тем, мне очень понравилась атмосфера театрального конкурса, люди, и я решил попробовать поступить снова. После окончания 11 класса я пробовался в Щепку (прим.ред. - ВТУ им. Щепкина), но слетел с 3 этапа из 7. На следующий год решил снова поступать (уже не было пути обратно). У меня тогда был педагог по актерскому мастерству, который готовил меня к поступлению – Валерия Ломакина (прим.ред. — актриса театра драмы РК «Творческая мастерская»). В 2017 году мы познакомились, а в 2018 году она решила поставить спектакль «Поэты. Про это» в «Творческой мастерской» и взяла меня.
Играл я бездарно, читал стихи отвратительно. Мы выпустили спектакль, сыграли его раз 5–7, и я снова поехал поступать. В Питере и в Москве не очень получилось, поэтому решил попытать счастья в Ярославле, но слетел там с последнего этапа. Было собеседование, на котором нам дали 30 вариантов вопросов. Все решили, что проще всего рассказывать про театр своего города. Я выбрал «Творческую мастерскую». Оказалось, женщина в комиссии долгое время работала в Петрозаводске, и она начала меня заваливать вопросами. И вот мы сидим в аудитории, входят педагоги и говорят: «Ребята, мы вас поздравляем, вы все студенты. Кроме тебя». А мы две недели вместе жили в общежитии, подружились. Из 31 человека взяли 30. Я сдался, опустил руки. Поступил в Колледж культуры (прим.ред. – Карельский колледж культуры и искусств»), но через 3 месяца ушел. И соответственно, исчерпал свою отсрочку от армии. Побрился налысо, потом подумал: «Нет, все-таки я поеду на второй тур в РГИСИ к Андрееву (А.Д. Андреев – режиссер и педагог)». Приехал лысый, очень плохо станцевал, неуверенно спел, и, конечно, меня не взяли.
— В 2015 году я написал заявление на поступление в студию Олега Табакова. Прослушивание проходило в Петрозаводске, в колледже культуры и искусства. Мама сказала: «Это хороший вариант: проживание в центре Москвы в общежитии, педагоги крутые, кормят бесплатно». Готовой программы у меня не было, но я знал много стихотворений, в основном, Есенина.
На прослушивании нас было 10 человек. Кому-то давали задание: вбегай в холодную воду, при этом читая басню. Доходит очередь до меня. Я начинаю читать стихотворение, мне говорят: «Давай еще». Отвечаю: «Могу еще Есенина». Они: «Не надо, спасибо. Давайте прозу!» Начинаю читать прозу и сбиваюсь примерно на второй строчке. Басни у меня не было. Тогда попросили, по-моему, прочитать стихотворение как колыбельную для младшего брата. Я был уверен, что шансов у меня нет. Даже не стал ждать, когда объявят результаты. Догнали на улице: «Парень, ты куда? Ты прошел».
Вступительные испытания продолжились в Москве. Олег Павлович был только на третьем этапе. И как-то так получалось, что я проходил. Все ребята рядом очень крутые, но в себе я уверен не был. Видимо, подходил типажом. На втором туре хорошо прочитал стихотворение Сергея Есенина «Мне осталась одна забава…». Это было собирательное наблюдение от Безрукова, присвоенное себе. А на третьем этапе решил прочитать другое стихотворение, и, когда мне велели продекламировать его, я сделал это как-то не очень уверенно. В общем, в списке поступивших меня не оказалось.
Между тем, мне очень понравилась атмосфера театрального конкурса, люди, и я решил попробовать поступить снова. После окончания 11 класса я пробовался в Щепку (прим.ред. - ВТУ им. Щепкина), но слетел с 3 этапа из 7. На следующий год решил снова поступать (уже не было пути обратно). У меня тогда был педагог по актерскому мастерству, который готовил меня к поступлению – Валерия Ломакина (прим.ред. — актриса театра драмы РК «Творческая мастерская»). В 2017 году мы познакомились, а в 2018 году она решила поставить спектакль «Поэты. Про это» в «Творческой мастерской» и взяла меня.
Играл я бездарно, читал стихи отвратительно. Мы выпустили спектакль, сыграли его раз 5–7, и я снова поехал поступать. В Питере и в Москве не очень получилось, поэтому решил попытать счастья в Ярославле, но слетел там с последнего этапа. Было собеседование, на котором нам дали 30 вариантов вопросов. Все решили, что проще всего рассказывать про театр своего города. Я выбрал «Творческую мастерскую». Оказалось, женщина в комиссии долгое время работала в Петрозаводске, и она начала меня заваливать вопросами. И вот мы сидим в аудитории, входят педагоги и говорят: «Ребята, мы вас поздравляем, вы все студенты. Кроме тебя». А мы две недели вместе жили в общежитии, подружились. Из 31 человека взяли 30. Я сдался, опустил руки. Поступил в Колледж культуры (прим.ред. – Карельский колледж культуры и искусств»), но через 3 месяца ушел. И соответственно, исчерпал свою отсрочку от армии. Побрился налысо, потом подумал: «Нет, все-таки я поеду на второй тур в РГИСИ к Андрееву (А.Д. Андреев – режиссер и педагог)». Приехал лысый, очень плохо станцевал, неуверенно спел, и, конечно, меня не взяли.

Вернулся в Петрозаводск, думаю, пойду, значит, служить. И как-то мой организм с этим не согласился: поднялась температура 39,5, начало лихорадить, опухла нога. Врачи выявили артрит, и служить я не пошел.
Уехал в Москву учиться в школе-студии «Cinarta», сейчас она при театре «Булгаковский дом». В ней преподают педагоги из Щепки, ВГИКа, в комиссии — артисты Малого театра. Проучился там год, за это время приобрел навыки клоунады, работы с предметом, играл этюды в предлагаемых обстоятельствах. Затем начался ковид, переехал обратно в Петрозаводск и начал поступать через Zoom в РГИСИ. Мой мастер, С.Д. Черкасский, на первом же туре сказал, что хочет видеть меня на курсе. Это было уже пятое мое поступление. Я боялся, но проходил туры. Сначала дистанционно через компьютер, потом очно в масках с дистанцией в три метра друг от друга.
Начались отрывки. Мы делали по Шекспиру «Много шума из ничего». Мне дали в напарники парня, Сережу Васина, который тоже пять лет поступает. Кажется, у нас получается все хорошо, все смеются. Нам говорят: «А теперь вам нужно поменяться ролями». Мы придумали, как сделать смешно, но в зале стояла гробовая тишина. Я опять остался в подвешенном состоянии, не зная, поступил или нет. К счастью, с четвертого раза меня туда взяли.
Учеба была сложной, практически каждый день хотелось отчислиться. От Питера я устал очень сильно, каждую неделю заболевал. На курсе я сыграл роль Пети Мелузова в спектакле «Таланты и поклонники» Островского. С Владимиром Чухланцевым поставили дипломный спектакль. Наш педагог Валерий Николаевич Галендеев — глыба русской сценической речи - умер, когда мы учились на 4 курсе. Мы подхватили его идею и поставили двухактный спектакль. Работа получилась интересной. После окончания учебы нас позвали играть в иммерсивный спектакль в Юсуповский дворец.
Уехал в Москву учиться в школе-студии «Cinarta», сейчас она при театре «Булгаковский дом». В ней преподают педагоги из Щепки, ВГИКа, в комиссии — артисты Малого театра. Проучился там год, за это время приобрел навыки клоунады, работы с предметом, играл этюды в предлагаемых обстоятельствах. Затем начался ковид, переехал обратно в Петрозаводск и начал поступать через Zoom в РГИСИ. Мой мастер, С.Д. Черкасский, на первом же туре сказал, что хочет видеть меня на курсе. Это было уже пятое мое поступление. Я боялся, но проходил туры. Сначала дистанционно через компьютер, потом очно в масках с дистанцией в три метра друг от друга.
Начались отрывки. Мы делали по Шекспиру «Много шума из ничего». Мне дали в напарники парня, Сережу Васина, который тоже пять лет поступает. Кажется, у нас получается все хорошо, все смеются. Нам говорят: «А теперь вам нужно поменяться ролями». Мы придумали, как сделать смешно, но в зале стояла гробовая тишина. Я опять остался в подвешенном состоянии, не зная, поступил или нет. К счастью, с четвертого раза меня туда взяли.
Учеба была сложной, практически каждый день хотелось отчислиться. От Питера я устал очень сильно, каждую неделю заболевал. На курсе я сыграл роль Пети Мелузова в спектакле «Таланты и поклонники» Островского. С Владимиром Чухланцевым поставили дипломный спектакль. Наш педагог Валерий Николаевич Галендеев — глыба русской сценической речи - умер, когда мы учились на 4 курсе. Мы подхватили его идею и поставили двухактный спектакль. Работа получилась интересной. После окончания учебы нас позвали играть в иммерсивный спектакль в Юсуповский дворец.

— Какой совет ты сейчас можешь дать поступающим?
— Можно провести работу над ошибками и не сдаваться. Говорят, что не ты выбираешь профессию, а профессия выбирает тебя. Если ты можешь жить без сцены, тогда тебе это все и не нужно. Если не можешь поступить на актёра, допустим, в течение 5-6-7 лет, то, наверное, надо отступить - тупо биться в закрытую дверь. Может быть, ты не актёр, а театровед, драматург, режиссёр или художник. Если ты хочешь быть в театре, то найдёшь там себе место. Для меня профессия актера - лучшая работа, которую я мог себе выбрать. Тут можно и поплакать, и посмеяться, и попрыгать, и побеситься, и на шпагах подраться.
— То есть, ты никогда не рассматривал другие профессии?
— Я поступал на физвоз (прим.ред. — факультет физической культуры): делал ласточку и упал. Поступал на журфак (факультет журналистики): писал сочинение и не поступил. И спасибо всем большое, кто меня не взял в другие профессии. Я сделал выбор – поступить в театральный вуз. Доказать всем и себе в первую очередь, что я могу. Осталось дойти до МХТ им. Чехова и сыграть там Раскольникова.
— Чем ты занят сейчас?
— Я играю «1900-й» и занят в мистериях в Юсуповском дворце. Пишу пьесу для новой мистерии. С Владимиром Чухланцевым ставим спектакль про Александра Блока и Андрея Белого, планируем выпустить его в конце декабря. Иногда появляются съемки в кино. За год я сыграл в четырех проектах. Снялся в сериале «Леший», где одну из главных ролей играет Евгений Терских, артист театра «Творческая мастерская».
— В проекте «Большая семья» для «России-1» ты сыграл одну из главных ролей!
— Это была моя самая первая работа. Я ездил в Москву, затем приезжал в Питер, играл «Таланты и поклонники» и снова уезжал. Немца сыграл в короткометражном фильме «Кресты». Немецкого я не знал, поэтому написал себе транскрипцию текста. Моим партнером оказался настоящий немец, который играет всегда генералов в военных фильмах. Он пытался поработать над моим акцентом, но я уже заучил по тому, что слышал в аудиозаписи. Но, вроде, справился. Хочется играть главные роли, особенно на платформах или даже на ТНТ.
Не так давно я выиграл грант от Росмолодежи на открытие в Петрозаводске Школы молодого драматурга. Мне нравится придумывать миры: четыре года в институте, и до этого всю жизнь я занимался тем, что придумывал в голове ситуации — от бытовой драки с незнакомцем до любовных перипетий. Сейчас все пошло дальше, лекции помогли мне очень сильно — теперь я примерно понимаю, что и за чем должно следовать, как это должно работать. Иногда мне нравится больше писать, чем играть, потому что я как завороженный могу по 6—7 часов редактировать текст. В театре я люблю работать над ролью: искать, ошибаешься, но находить.
— Можно провести работу над ошибками и не сдаваться. Говорят, что не ты выбираешь профессию, а профессия выбирает тебя. Если ты можешь жить без сцены, тогда тебе это все и не нужно. Если не можешь поступить на актёра, допустим, в течение 5-6-7 лет, то, наверное, надо отступить - тупо биться в закрытую дверь. Может быть, ты не актёр, а театровед, драматург, режиссёр или художник. Если ты хочешь быть в театре, то найдёшь там себе место. Для меня профессия актера - лучшая работа, которую я мог себе выбрать. Тут можно и поплакать, и посмеяться, и попрыгать, и побеситься, и на шпагах подраться.
— То есть, ты никогда не рассматривал другие профессии?
— Я поступал на физвоз (прим.ред. — факультет физической культуры): делал ласточку и упал. Поступал на журфак (факультет журналистики): писал сочинение и не поступил. И спасибо всем большое, кто меня не взял в другие профессии. Я сделал выбор – поступить в театральный вуз. Доказать всем и себе в первую очередь, что я могу. Осталось дойти до МХТ им. Чехова и сыграть там Раскольникова.
— Чем ты занят сейчас?
— Я играю «1900-й» и занят в мистериях в Юсуповском дворце. Пишу пьесу для новой мистерии. С Владимиром Чухланцевым ставим спектакль про Александра Блока и Андрея Белого, планируем выпустить его в конце декабря. Иногда появляются съемки в кино. За год я сыграл в четырех проектах. Снялся в сериале «Леший», где одну из главных ролей играет Евгений Терских, артист театра «Творческая мастерская».
— В проекте «Большая семья» для «России-1» ты сыграл одну из главных ролей!
— Это была моя самая первая работа. Я ездил в Москву, затем приезжал в Питер, играл «Таланты и поклонники» и снова уезжал. Немца сыграл в короткометражном фильме «Кресты». Немецкого я не знал, поэтому написал себе транскрипцию текста. Моим партнером оказался настоящий немец, который играет всегда генералов в военных фильмах. Он пытался поработать над моим акцентом, но я уже заучил по тому, что слышал в аудиозаписи. Но, вроде, справился. Хочется играть главные роли, особенно на платформах или даже на ТНТ.
Не так давно я выиграл грант от Росмолодежи на открытие в Петрозаводске Школы молодого драматурга. Мне нравится придумывать миры: четыре года в институте, и до этого всю жизнь я занимался тем, что придумывал в голове ситуации — от бытовой драки с незнакомцем до любовных перипетий. Сейчас все пошло дальше, лекции помогли мне очень сильно — теперь я примерно понимаю, что и за чем должно следовать, как это должно работать. Иногда мне нравится больше писать, чем играть, потому что я как завороженный могу по 6—7 часов редактировать текст. В театре я люблю работать над ролью: искать, ошибаешься, но находить.

— Расскажи о работе над «1900-м»!
— «Легенда о пианисте» - один из любимых фильмов моего брата. Я не стал его пересматривать, чтобы случайно не наворовать оттуда. Хотя нет, одну сцену специально посмотрел, потому что не понимал, как она решена. Один жест, когда герой кладет локоть на пианино, я, каюсь, украл. Все остальное мы придумывали сами.
— Насколько тяжело играть в моноспектакле? Ты ловко управляешь голосом, когда перевоплощаешься на сцене в каждого из героев.
— За это спасибо Валерию Николаевичу Галендееву, моему педагогу. Если бы он не появился в моей жизни, то я бы, наверное, остался в этой мертвой точке, в которой оказался на первом курсе. Моноспектакль — это очень сложный жанр. Это другой способ обмена энергией со зрителем, который становится твоим партнером. И ты либо доносишь до него свою мысль, либо пролетаешь мимо, не цепляя. Каждый раз это вызов, поскольку зрители разные: где-то смеются, там, где вроде не должны были, а где был уверен, что сейчас засмеются, но передавил — не отреагировали.
— Станиславский сказал, что плох тот актёр, который играет самого себя. Но вы же всё равно в какой-то степени остаетесь именно собой?
— Каждый раз я пытаюсь быть на сцене не собой, но, естественно, от себя не убежишь: иногда личная тема становится важнее, чем тема персонажа. Я нашел ужимки, попробовал себе присвоить, но, в целом, психофизика все равно остается моей. Конечно, хочется сказать, что актер с каждой новой ролью перевоплощается и становится другим человеком, но все равно нельзя забывать, что мы в театре: я - актер, вы - зрители. И не нужно на 100 % верить в происходящее, только на 95%, а на 5% оставаться в реальности. Когда я прихожу делать роль, то я - Даня в этой точке координат. Когда я дохожу до конца, у меня уже в голове появляется другой объем информации, в том числе, исследовательская работа, которая необходима, когда ты занимаешься любым спектаклем. И, в итоге, когда ты играешь этого персонажа, это уже не совсем ты, потому что ты не тот, которым был в начале.
— А в какой момент ты отходишь от своего героя внутри спектакля, ты перестаёшь им жить?
— Возможно, когда я выхожу из театра, потому что даже на поклоне это не совсем я бегаю. Какая-то походка даже другая, принадлежащая Тиму Туни: чуть-чуть неуклюжая, немножко суетливая. Я в жизни другой человек – тяжёлый северянин. А тут американцы, у них джаз в ногах, в улыбке, в голосе. Кстати, не люблю поклоны, в начале карьеры терпеть их не мог. Наверное, из-за синдрома самозванца мне казалось, что я не доиграл, не заслужил. Нам много раз объясняли, что на поклоне мы не имеем права показывать, что нам что-то не понравилось, что-то плохо сыграли, потому что в этот момент происходит обмен энергии со зрителем. Вы давали им ее на протяжении всего спектакля, и они отдают вам ее обратно, будьте добры получить, чтобы обмен состоялся.
— «Легенда о пианисте» - один из любимых фильмов моего брата. Я не стал его пересматривать, чтобы случайно не наворовать оттуда. Хотя нет, одну сцену специально посмотрел, потому что не понимал, как она решена. Один жест, когда герой кладет локоть на пианино, я, каюсь, украл. Все остальное мы придумывали сами.
— Насколько тяжело играть в моноспектакле? Ты ловко управляешь голосом, когда перевоплощаешься на сцене в каждого из героев.
— За это спасибо Валерию Николаевичу Галендееву, моему педагогу. Если бы он не появился в моей жизни, то я бы, наверное, остался в этой мертвой точке, в которой оказался на первом курсе. Моноспектакль — это очень сложный жанр. Это другой способ обмена энергией со зрителем, который становится твоим партнером. И ты либо доносишь до него свою мысль, либо пролетаешь мимо, не цепляя. Каждый раз это вызов, поскольку зрители разные: где-то смеются, там, где вроде не должны были, а где был уверен, что сейчас засмеются, но передавил — не отреагировали.
— Станиславский сказал, что плох тот актёр, который играет самого себя. Но вы же всё равно в какой-то степени остаетесь именно собой?
— Каждый раз я пытаюсь быть на сцене не собой, но, естественно, от себя не убежишь: иногда личная тема становится важнее, чем тема персонажа. Я нашел ужимки, попробовал себе присвоить, но, в целом, психофизика все равно остается моей. Конечно, хочется сказать, что актер с каждой новой ролью перевоплощается и становится другим человеком, но все равно нельзя забывать, что мы в театре: я - актер, вы - зрители. И не нужно на 100 % верить в происходящее, только на 95%, а на 5% оставаться в реальности. Когда я прихожу делать роль, то я - Даня в этой точке координат. Когда я дохожу до конца, у меня уже в голове появляется другой объем информации, в том числе, исследовательская работа, которая необходима, когда ты занимаешься любым спектаклем. И, в итоге, когда ты играешь этого персонажа, это уже не совсем ты, потому что ты не тот, которым был в начале.
— А в какой момент ты отходишь от своего героя внутри спектакля, ты перестаёшь им жить?
— Возможно, когда я выхожу из театра, потому что даже на поклоне это не совсем я бегаю. Какая-то походка даже другая, принадлежащая Тиму Туни: чуть-чуть неуклюжая, немножко суетливая. Я в жизни другой человек – тяжёлый северянин. А тут американцы, у них джаз в ногах, в улыбке, в голосе. Кстати, не люблю поклоны, в начале карьеры терпеть их не мог. Наверное, из-за синдрома самозванца мне казалось, что я не доиграл, не заслужил. Нам много раз объясняли, что на поклоне мы не имеем права показывать, что нам что-то не понравилось, что-то плохо сыграли, потому что в этот момент происходит обмен энергии со зрителем. Вы давали им ее на протяжении всего спектакля, и они отдают вам ее обратно, будьте добры получить, чтобы обмен состоялся.

Денни Будман, спектакль «1900-й. Легенда о пианисте», театр "Творческая мастерская"
— Ты берешь что-то в свою жизнь от героев?
— Мне кажется, многие актеры в жизни общаются цитатами своих персонажей, потому что они в какой-то момент оказываются к месту. С каждым разом ты меняешься, пытаешься понять другого человека, оправдать его действия и логику, и, соответственно, уже не можешь оставаться собой. И в жизни, когда мы общаемся с кем-то, то прислушиваемся к мнению другого человека. Да, мы можем его присвоить или отказаться, но все равно уже подумали о нем, а значит — двинулись дальше. Когда я вот здесь, в предлагаемых обстоятельствах, то должен быть здесь, но потом смотрю на ситуацию извне и сразу вспоминаю, как таких людей я видел в жизни, у меня меняется к ним отношение. И, наверное, хочется с каждой ролью становиться добрее, лучше. Еще насчет амплуа, я считаю и мне многие говорили, что у меня ярко выраженное отрицательное обаяние. То есть я должен играть антагонистов, и я хочу играть злодеев, а дают мне играть хороших мальчишек. Я бы чувствовал себя увереннее, а так я нахожусь в зажимах этого персонажа, чувствую себя слабее, уязвимей. А когда ты играешь злодея, то можешь всю гадкую энергию, злость, которая в тебе накопилась, здесь сублимировать и стать хорошим человеком в жизни, потому что здесь ты позволил себе проработать это. Конечно, не хочется играть одних только злодеев, но хотелось бы сыграть еще что-то на грани, чтобы это был неоднозначный персонаж, как Раскольников, например.
— Как происходит обмен энергией в «1900-м»?
— На протяжении всего спектакля я ломаю, по сути, четвертую стену и с самого первого своего слова начинаю общаться со зрителем, мы с ним в диалоге. Да, он не успевает отвечать, но его улыбка или лицо, которое он отвел в сторону, — это ответ на мою реплику. И ты можешь проследить путь, как этому человеку в начале было интересно, потом он немножко потерял внимание, а затем снова включился. И если ты смог довести его интерес до конца, он стоит на поклоне и улыбается, — это, наверное, похвала.
— Мне кажется, многие актеры в жизни общаются цитатами своих персонажей, потому что они в какой-то момент оказываются к месту. С каждым разом ты меняешься, пытаешься понять другого человека, оправдать его действия и логику, и, соответственно, уже не можешь оставаться собой. И в жизни, когда мы общаемся с кем-то, то прислушиваемся к мнению другого человека. Да, мы можем его присвоить или отказаться, но все равно уже подумали о нем, а значит — двинулись дальше. Когда я вот здесь, в предлагаемых обстоятельствах, то должен быть здесь, но потом смотрю на ситуацию извне и сразу вспоминаю, как таких людей я видел в жизни, у меня меняется к ним отношение. И, наверное, хочется с каждой ролью становиться добрее, лучше. Еще насчет амплуа, я считаю и мне многие говорили, что у меня ярко выраженное отрицательное обаяние. То есть я должен играть антагонистов, и я хочу играть злодеев, а дают мне играть хороших мальчишек. Я бы чувствовал себя увереннее, а так я нахожусь в зажимах этого персонажа, чувствую себя слабее, уязвимей. А когда ты играешь злодея, то можешь всю гадкую энергию, злость, которая в тебе накопилась, здесь сублимировать и стать хорошим человеком в жизни, потому что здесь ты позволил себе проработать это. Конечно, не хочется играть одних только злодеев, но хотелось бы сыграть еще что-то на грани, чтобы это был неоднозначный персонаж, как Раскольников, например.
— Как происходит обмен энергией в «1900-м»?
— На протяжении всего спектакля я ломаю, по сути, четвертую стену и с самого первого своего слова начинаю общаться со зрителем, мы с ним в диалоге. Да, он не успевает отвечать, но его улыбка или лицо, которое он отвел в сторону, — это ответ на мою реплику. И ты можешь проследить путь, как этому человеку в начале было интересно, потом он немножко потерял внимание, а затем снова включился. И если ты смог довести его интерес до конца, он стоит на поклоне и улыбается, — это, наверное, похвала.

— В спектакле «1900-й» ты играешь разных персонажей. Как шла работа над перевоплощениями?
– Может показаться, что какой-то сумасшедший бегает по сцене и разговаривает разными голосами. Моя мастерская была заточена под правду жизни. В театре переживания, если ты стоишь под холодным душем, то не просто телом отыгрываешь, а должен почувствовать эти капли и уже после этого начать говорить. У Владимира Чухланцева - игровой театр, театр масок, где ты понимаешь, что ты актер в любом случае, и не можешь сейчас за секунду вжиться в другого человека, но ты можешь на него гротескно намекнуть. В спектакле «1900-й» я пытался работать по методу, заданному режиссером. Нужно было расслабить себя в один момент, почувствовать наслаждение от «кривляния». Мы пришли к премьере, и у нас остался только этот рисунок. Пришли актеры на сдачу и сказали, что процесса нет. Я подумал, что я упустил правду жизни, когда пытался сохранить рисунок и партитуру режиссера. Дальше я стал думать, в какие моменты я могу себе эти препятствия расставить, чтобы было это более правдоподобно.
— Хочется ли тебе самому заплакать в какой-то момент на сцене?
— Режиссер сказал, что в такие моменты я ухожу не туда: «Я понимаю, что тебя история пробивает, но в таком случае это не долетает до нас». Моя первоочередная задача — рассказать историю, и, если в какой-то момент меня так захлестнут чувства, что я не смогу дальше вести ее как актер, то она будет оборвана. Но меня пробивает этот монолог в финале всё равно. Ты пытаешься всё равно найти в себе что-то такое доброе и искреннее, что есть и у «1900-го». Каждый раз, когда я надеваю шляпу, я моментально включаюсь, представляю, что я ребёнок. Правда, хочу выйти и посмотреть на это море.
– Может показаться, что какой-то сумасшедший бегает по сцене и разговаривает разными голосами. Моя мастерская была заточена под правду жизни. В театре переживания, если ты стоишь под холодным душем, то не просто телом отыгрываешь, а должен почувствовать эти капли и уже после этого начать говорить. У Владимира Чухланцева - игровой театр, театр масок, где ты понимаешь, что ты актер в любом случае, и не можешь сейчас за секунду вжиться в другого человека, но ты можешь на него гротескно намекнуть. В спектакле «1900-й» я пытался работать по методу, заданному режиссером. Нужно было расслабить себя в один момент, почувствовать наслаждение от «кривляния». Мы пришли к премьере, и у нас остался только этот рисунок. Пришли актеры на сдачу и сказали, что процесса нет. Я подумал, что я упустил правду жизни, когда пытался сохранить рисунок и партитуру режиссера. Дальше я стал думать, в какие моменты я могу себе эти препятствия расставить, чтобы было это более правдоподобно.
— Хочется ли тебе самому заплакать в какой-то момент на сцене?
— Режиссер сказал, что в такие моменты я ухожу не туда: «Я понимаю, что тебя история пробивает, но в таком случае это не долетает до нас». Моя первоочередная задача — рассказать историю, и, если в какой-то момент меня так захлестнут чувства, что я не смогу дальше вести ее как актер, то она будет оборвана. Но меня пробивает этот монолог в финале всё равно. Ты пытаешься всё равно найти в себе что-то такое доброе и искреннее, что есть и у «1900-го». Каждый раз, когда я надеваю шляпу, я моментально включаюсь, представляю, что я ребёнок. Правда, хочу выйти и посмотреть на это море.

— Чем отличается работа в театре от съемок в кино?
— В театре есть жесткий рисунок, который ты должен соблюдать, но внутри него ты можешь импровизировать, и каждый раз получается по-другому. А в кино, когда я пришел в «Большую семью», выходит режиссер, показывает четкий порядок действий. И я начинаю играть, меняем камеры, укрупняем, меня просят повторить то же самое, а я не помню, как почесал себе голову, какой рукой. Мне показывают видео, чтобы я повторил досконально, но я в стрессе. На второй день мне режиссер сказал: «Это был плевок в вечность. Я специально оставлю это, чтобы ты знал». А сейчас на съемках я чувствую себя уже спокойнее, увереннее, понимаю специфику. Бывают моменты, допустим, когда переставляют камеру на партнера. И я, как честный актёр, продолжаю играть по максимуму. А мне говорят: «Парень, ты не в камере. Просто кидай текст». Мне нравится кино тем, что оно осталось. Да, плевок, но в вечность. И в театре интересно: ты можешь достичь какого-то крутого результата, полёта души и тела, а на следующий спектакль придёшь и уже будет чуть хуже.В кино ты сам за себя, а в театре это общий процесс.
— Что важнее: признание зрителей в зале или мнение критиков?
— Конечно, хочется в профессиональной среде быть на слуху, но мы же не для критиков играем. Критики, скорее всего, могут быть и предвзяты, как в хорошую, так и в плохую сторону. А зритель будет честен в этом плане. Я люблю зрителей. Работаю, чтобы видеть в их глазах какой-то процесс. Как работают зеркальные нейроны? Если нам человек импонирует, то мы начинаем неосознанно на себя проецировать его поведение, ход мыслей. И когда ты видишь, что у вас произошел этот коннект со зрителем, вы общаетесь на одном языке, - для меня это удовольствие. Когда я прихожу домой и вспоминаю женщину из зала, которая заворожённо смотрела, то думаю, что не зря прожил этот день, кому-то доставил удовольствие, заставил о чем-то задуматься.
— В театре есть жесткий рисунок, который ты должен соблюдать, но внутри него ты можешь импровизировать, и каждый раз получается по-другому. А в кино, когда я пришел в «Большую семью», выходит режиссер, показывает четкий порядок действий. И я начинаю играть, меняем камеры, укрупняем, меня просят повторить то же самое, а я не помню, как почесал себе голову, какой рукой. Мне показывают видео, чтобы я повторил досконально, но я в стрессе. На второй день мне режиссер сказал: «Это был плевок в вечность. Я специально оставлю это, чтобы ты знал». А сейчас на съемках я чувствую себя уже спокойнее, увереннее, понимаю специфику. Бывают моменты, допустим, когда переставляют камеру на партнера. И я, как честный актёр, продолжаю играть по максимуму. А мне говорят: «Парень, ты не в камере. Просто кидай текст». Мне нравится кино тем, что оно осталось. Да, плевок, но в вечность. И в театре интересно: ты можешь достичь какого-то крутого результата, полёта души и тела, а на следующий спектакль придёшь и уже будет чуть хуже.В кино ты сам за себя, а в театре это общий процесс.
— Что важнее: признание зрителей в зале или мнение критиков?
— Конечно, хочется в профессиональной среде быть на слуху, но мы же не для критиков играем. Критики, скорее всего, могут быть и предвзяты, как в хорошую, так и в плохую сторону. А зритель будет честен в этом плане. Я люблю зрителей. Работаю, чтобы видеть в их глазах какой-то процесс. Как работают зеркальные нейроны? Если нам человек импонирует, то мы начинаем неосознанно на себя проецировать его поведение, ход мыслей. И когда ты видишь, что у вас произошел этот коннект со зрителем, вы общаетесь на одном языке, - для меня это удовольствие. Когда я прихожу домой и вспоминаю женщину из зала, которая заворожённо смотрела, то думаю, что не зря прожил этот день, кому-то доставил удовольствие, заставил о чем-то задуматься.

— Блиц-опрос. Главные роли или второстепенные?
— Главные. Я бы хотел второстепенную сделать главной.
— Импровизация или точность?
— Ты должен быть абсолютно точен в режиссерской партитуре и тогда можешь добавлять импровизацию. Лучшая импровизация —хорошо подготовленная.
— Драма или комедия?
— Трагикомедия.
— Ранние подъёмы или поздние вечера?
— Поздние вечера. Я вообще ненавижу утро до 12 часов, не могу воспринимать мир. Люди очень злые в это время суток, и я пытаюсь их избегать.
— Читать книги или смотреть фильмы?
— Писать книги и снимать фильмы.
— Быстрый успех или уверенный, к которому долго идешь?
— Быстрый успех сгорает - ты можешь взлететь, но потом разочароваться на всю оставшуюся жизнь из-за того, что, оказывается, ничего не стоишь, а это просто была сиюминутная удача. Уверенный успех – это результат. Долгожданный. Качественный. Заслуженный.
— Попробовать себя во всех жанрах или стать мастером в одном?
— Попробовать себя во всех жанрах и стать мастером в каждом из них.
— Главные. Я бы хотел второстепенную сделать главной.
— Импровизация или точность?
— Ты должен быть абсолютно точен в режиссерской партитуре и тогда можешь добавлять импровизацию. Лучшая импровизация —хорошо подготовленная.
— Драма или комедия?
— Трагикомедия.
— Ранние подъёмы или поздние вечера?
— Поздние вечера. Я вообще ненавижу утро до 12 часов, не могу воспринимать мир. Люди очень злые в это время суток, и я пытаюсь их избегать.
— Читать книги или смотреть фильмы?
— Писать книги и снимать фильмы.
— Быстрый успех или уверенный, к которому долго идешь?
— Быстрый успех сгорает - ты можешь взлететь, но потом разочароваться на всю оставшуюся жизнь из-за того, что, оказывается, ничего не стоишь, а это просто была сиюминутная удача. Уверенный успех – это результат. Долгожданный. Качественный. Заслуженный.
— Попробовать себя во всех жанрах или стать мастером в одном?
— Попробовать себя во всех жанрах и стать мастером в каждом из них.

— Какой суперспособностью ты бы хотел обладать?
— Телепортироваться. Я посмотрел фильм «Телепорт» в 2014 году. Подумал о том, какая это классная способность, ведь можно оказаться где угодно в любую секунду. Это как 1900-й, он же путешествовал, хотя нигде, по сути, не был. Или иметь портальную пушку как у Рика и Морти в моем любимом мультсериале.
— Телепортироваться. Я посмотрел фильм «Телепорт» в 2014 году. Подумал о том, какая это классная способность, ведь можно оказаться где угодно в любую секунду. Это как 1900-й, он же путешествовал, хотя нигде, по сути, не был. Или иметь портальную пушку как у Рика и Морти в моем любимом мультсериале.
События