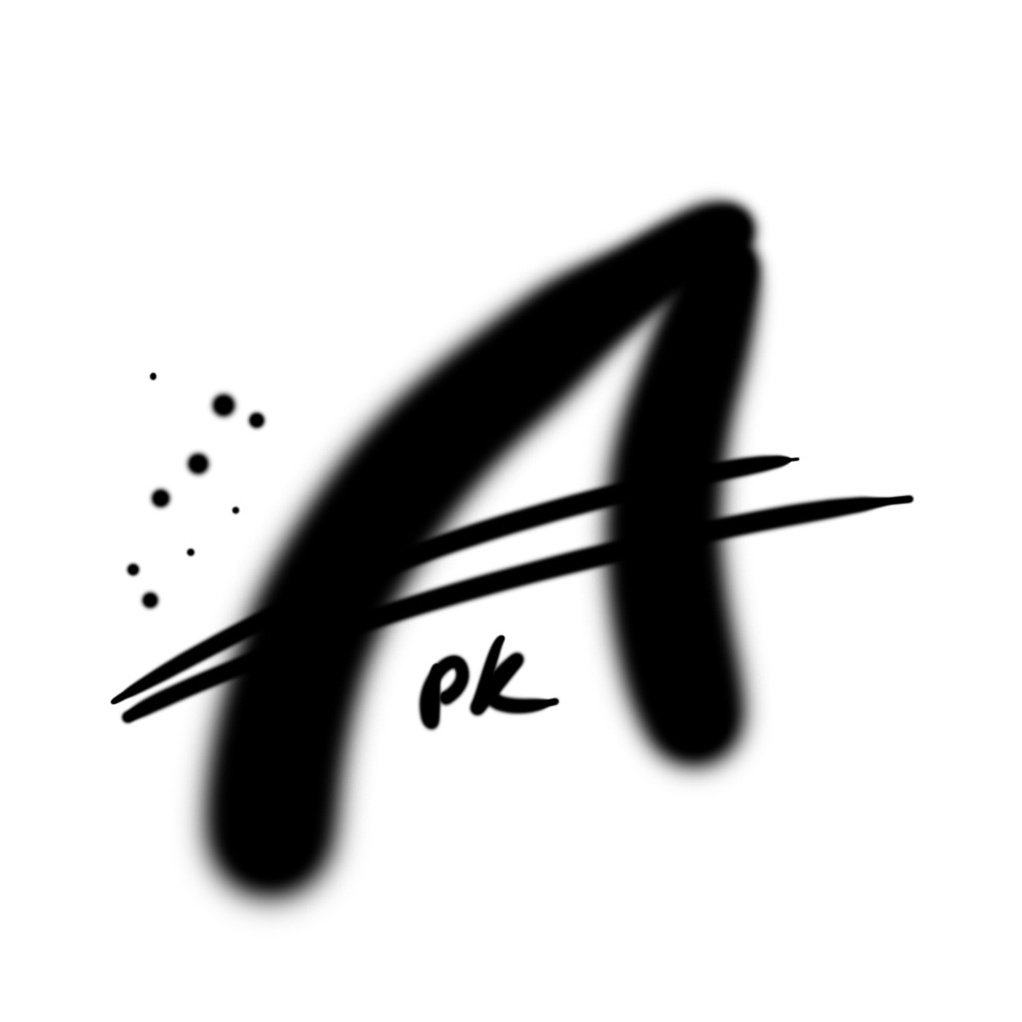Хорошее отношение к лошадям
Спектакль «Станционный смотритель» по повести А.С. Пушкина Акмолинского областного русского драматического театра из города Кокшетау (Казахстан) прошел в Петрозаводске в рамках V Фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Театральная осень. Играем классику», и возможность увидеть этот спектакль стала для зрителей подарком.

Текст: Наталия Крылова, фото: М.Никитин
В инсценировке и постановке Тимура Кулова историю Самсона Вырина рассказывает не Иван Петрович Белкин, а лошади, и это, с одной стороны, очищает её от хрестоматийности, позволяет увидеть по-новому и снимает лишний пафос, а с другой – даёт повести вневременное, бытийное звучание. Лошади в разных культурах являются фундаментальным архетипом, они подключены к силам природы, как символ верности, времени и вечности.
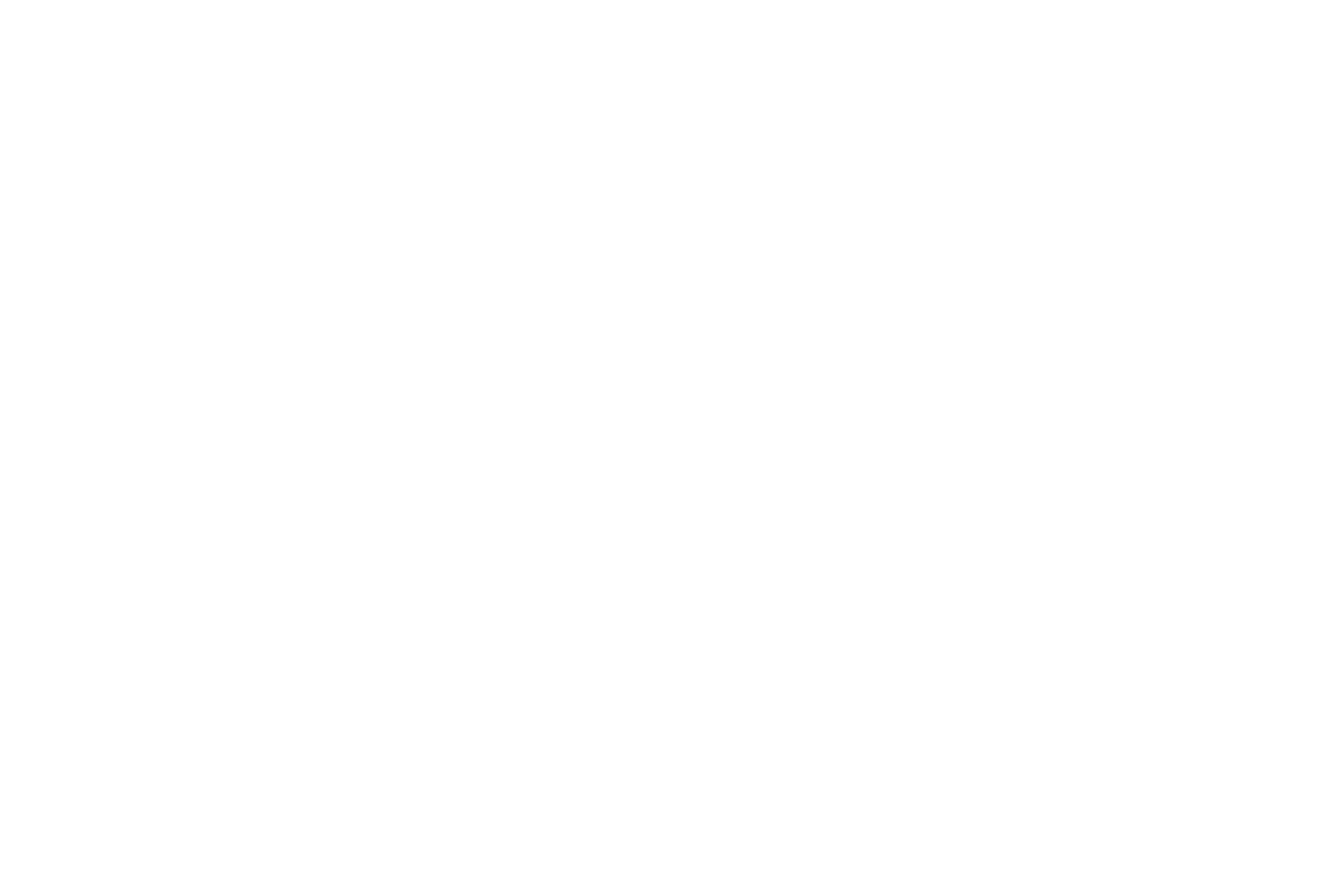
Медленно и лениво жуя свою жвачку, смотрят с арьерсцены отставные почтовые лошади
На сцене мир лошадей и мир людей противопоставлены друг другу. Надёжность и незыблемость стойла контрастирует с хаосом и суетой почтовой станции. В сценической реальности нет и не может быть лоскутных покрывал, занавесок и герани, Самсон Вырин и Дуня живут буквально «на чемоданах», символе сиюминутности и неустроенности. Во всяком случае, именно так видят их жизнь кони. Медленно и лениво жуя свою жвачку, смотрят с арьерсцены отставные почтовые лошади сквозь бивак Выринской станции на нас, сидящих в современном зале людей.
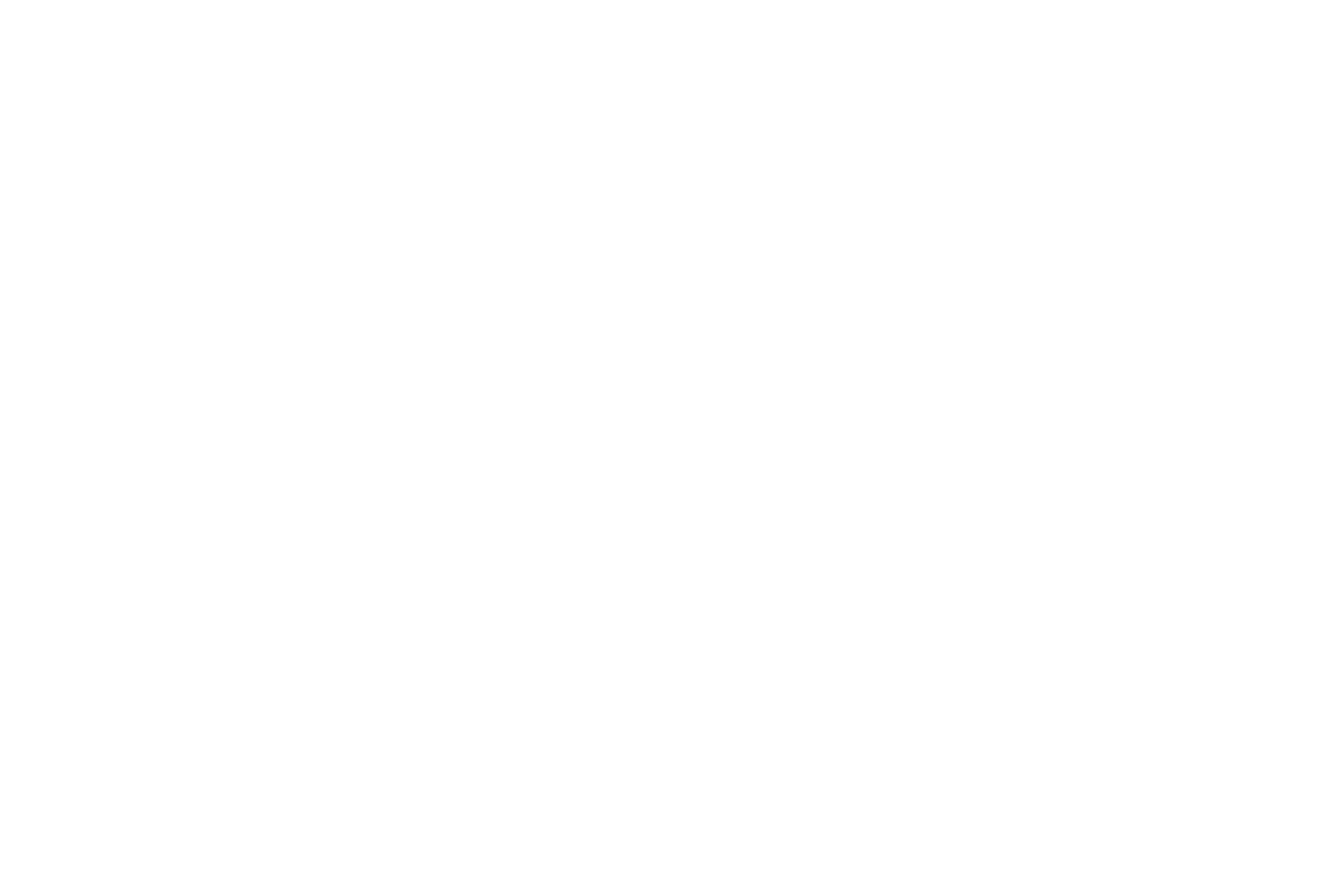
Дуня (Оксана Науменко), Самсон Вырин (Владимир Овчинников)
В спектакле Тимура Кулова выразительный пластический и метафорический театральный язык и сложная архитектоника: люди играют лошадей, которые играют людей. Причём, играя лошадей, актёры живут подробно – в отличие от персонажей повести, в которых проглядывает лошадиное начало – они отфыркиваются, стучат копытами и т.д. – и которых лошади изображают более общо. До ухода Дуни, до состояния пустоты в душе и жизни Самсона Вырина лошади на заднем плане постоянно находятся в стойле. Выходя вперёд, они играют свой фрагмент и снова возвращаются: жуют, отгоняют мух, перетаптываются с ноги на ногу, разминаются. Они – живой фон этой истории, и наблюдать за детальным существованием артистов на заднем плане увлекательно. Так, пока на переднем плане идёт действие, стойло становится для старой гнедой кобылы даже балетным станком.
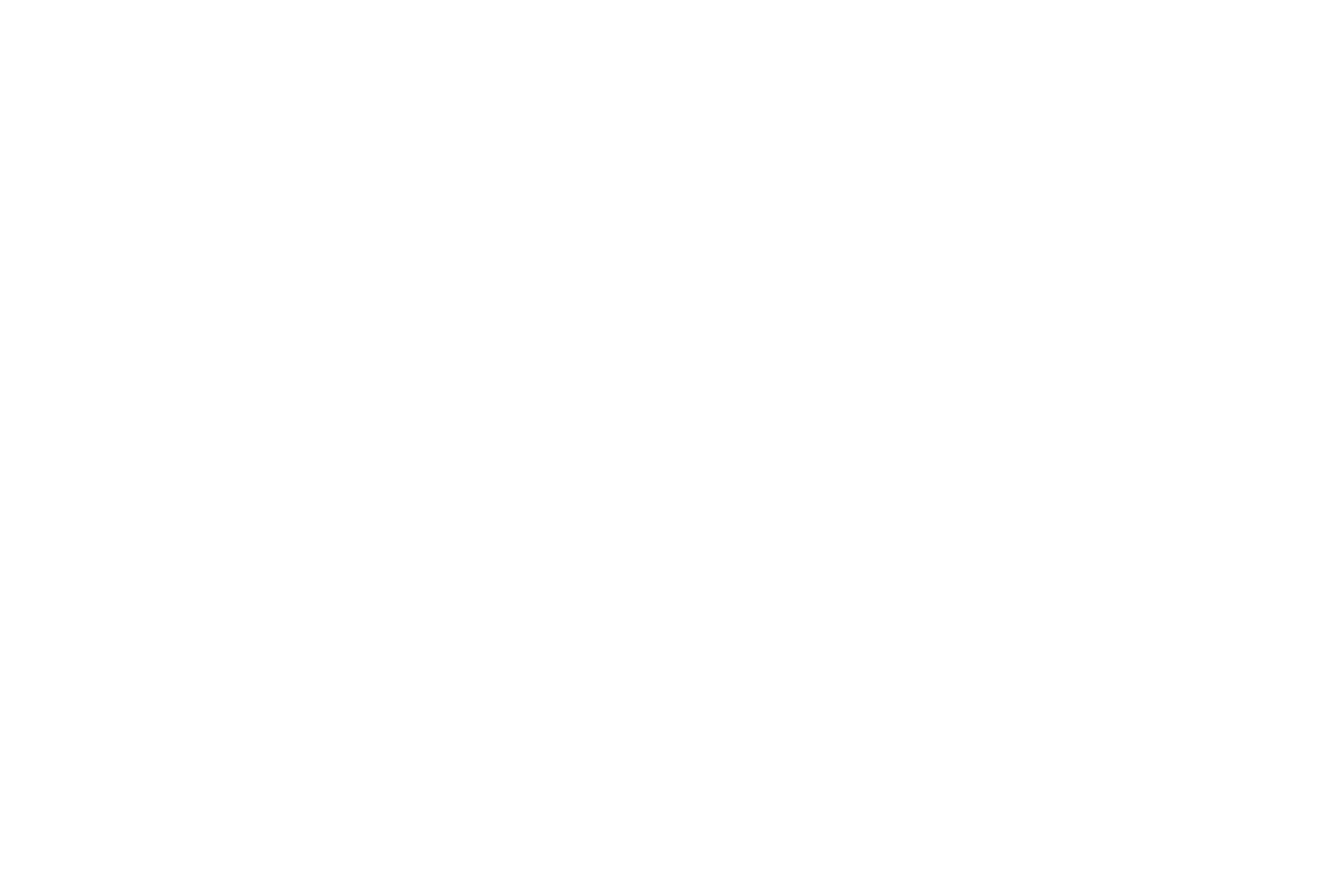
Жена пивовара (Нургуль Джунусова), Дуня (Оксана Науменко)
История начинается с того, что в конюшне, где, скучая без работы, стоит четвёрка лошадей, появляется ещё один конь, дающий начало этой постановке. Почтовый тракт закрыт, станция упразднена, а лошадей оставили: они вспоминают минувшие дни. Молодая кобылка выходит на авансцену и становится приехавшей барыней – бывшей Дуней (Оксана Науменко), а старая гнедая лошадь – Женой пивовара (Нургуль Джунусова), который теперь живёт в бывшей почтовой станции.
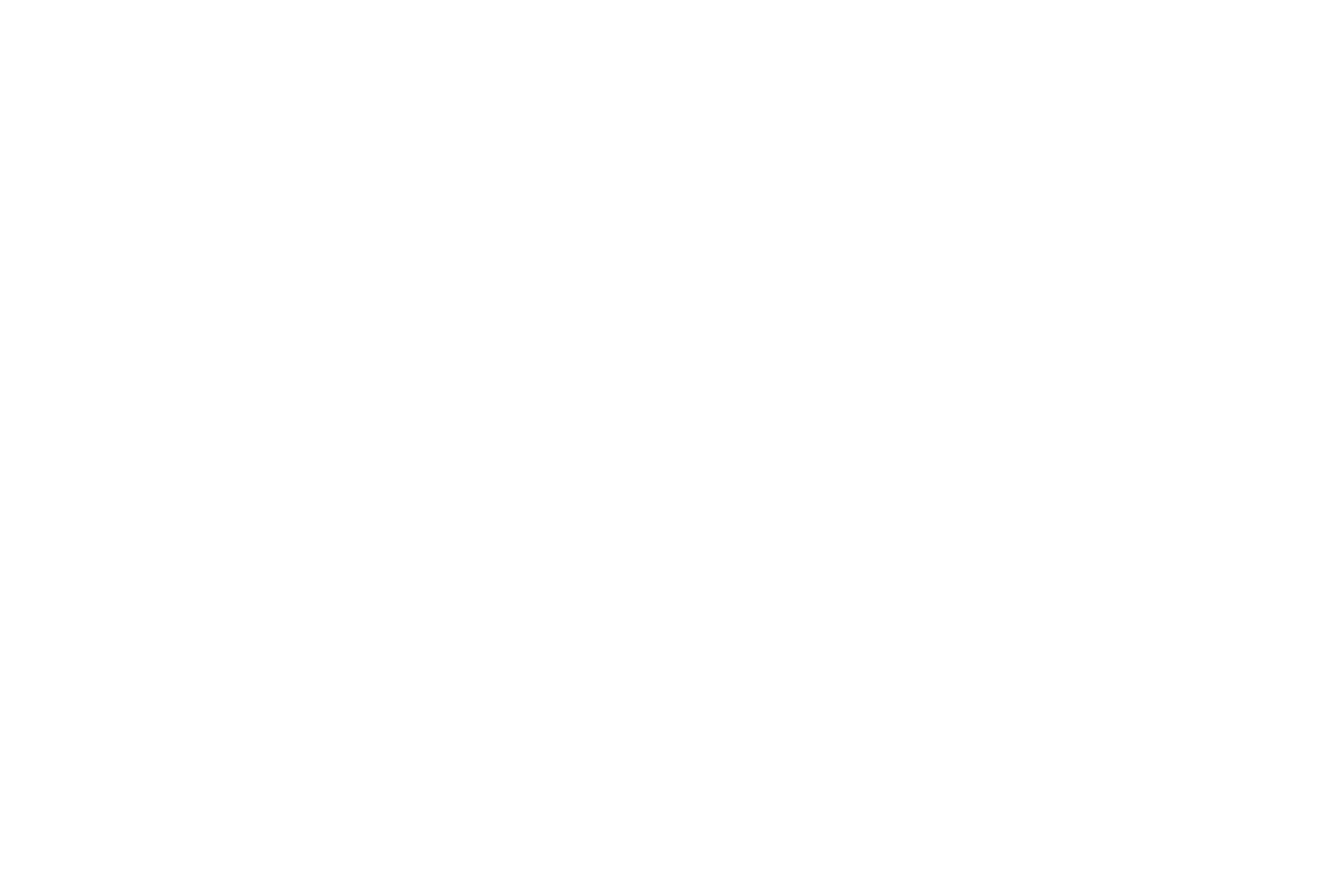
молодой соловый жеребчик и другие (Анатолий Егорин), ротмистр Минский (Тимур Валиев)
В первое мгновение Дуня-Науменко проявляется как настоящая аристократка, она свысока общается с простолюдинкой. Но потом зрители отмечают, что барыня прекрасно умеет обращаться с лошадьми: подходит к молодому соловому жеребчику (Анатолий Егорин), похлопывает его по шее, и он успокаивается и начинает пить. Многочисленные образы Егорина – это яркие, точные зарисовки. Он играет все функциональные роли: всех проезжих – от ямщиков до гусаров, бродягу, привратника и других. И каждый раз точно перевоплощается, используя простые актёрские приспособления. Так же чётко выполнены и роли Доктора и Жены пивовара Нургуль Джунусовой.
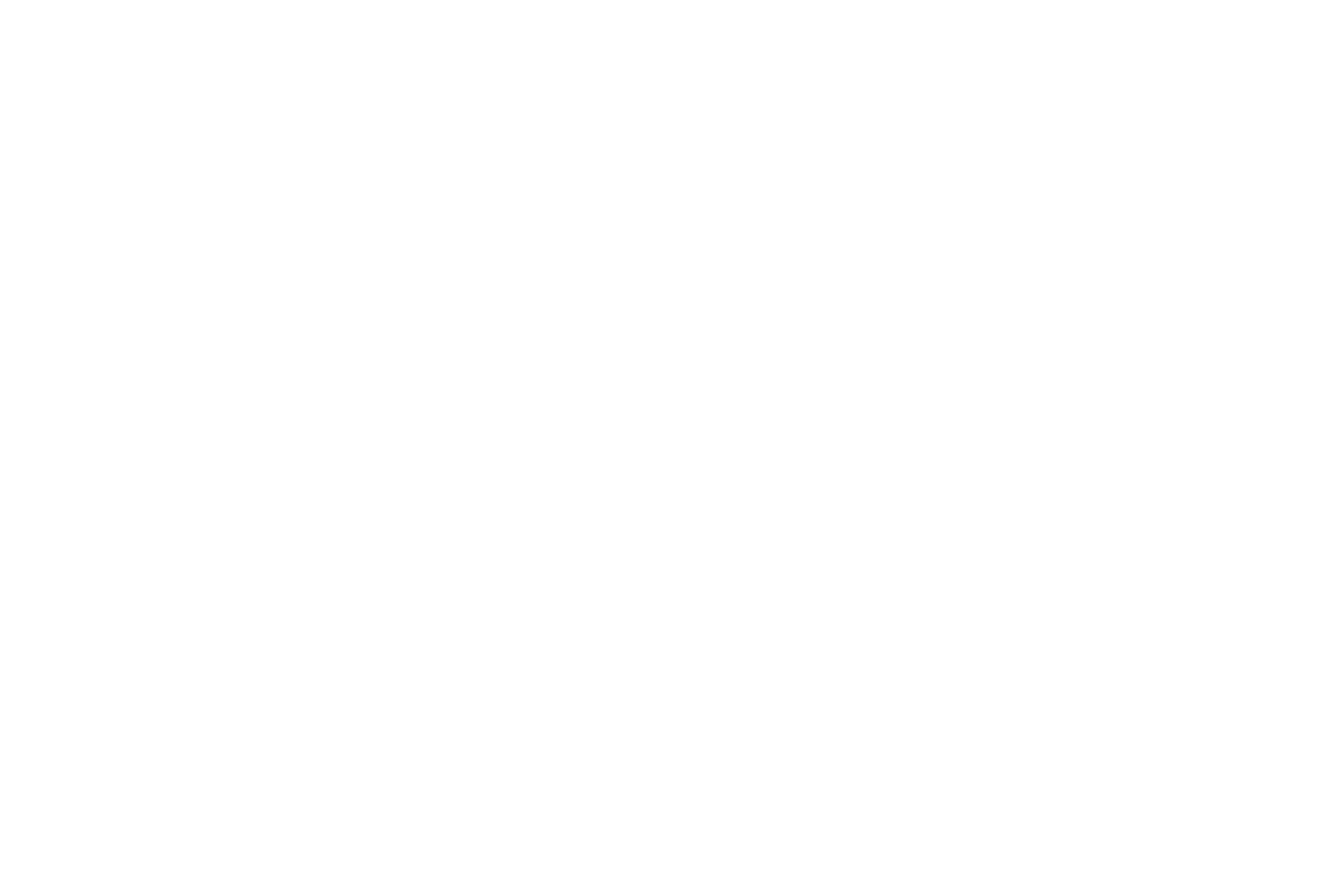
Когда барыня собирается на могилу отца и надевает сапоги и жилет, то превращается в наивную юную Дуню, то есть, структура роли становится ещё сложнее.
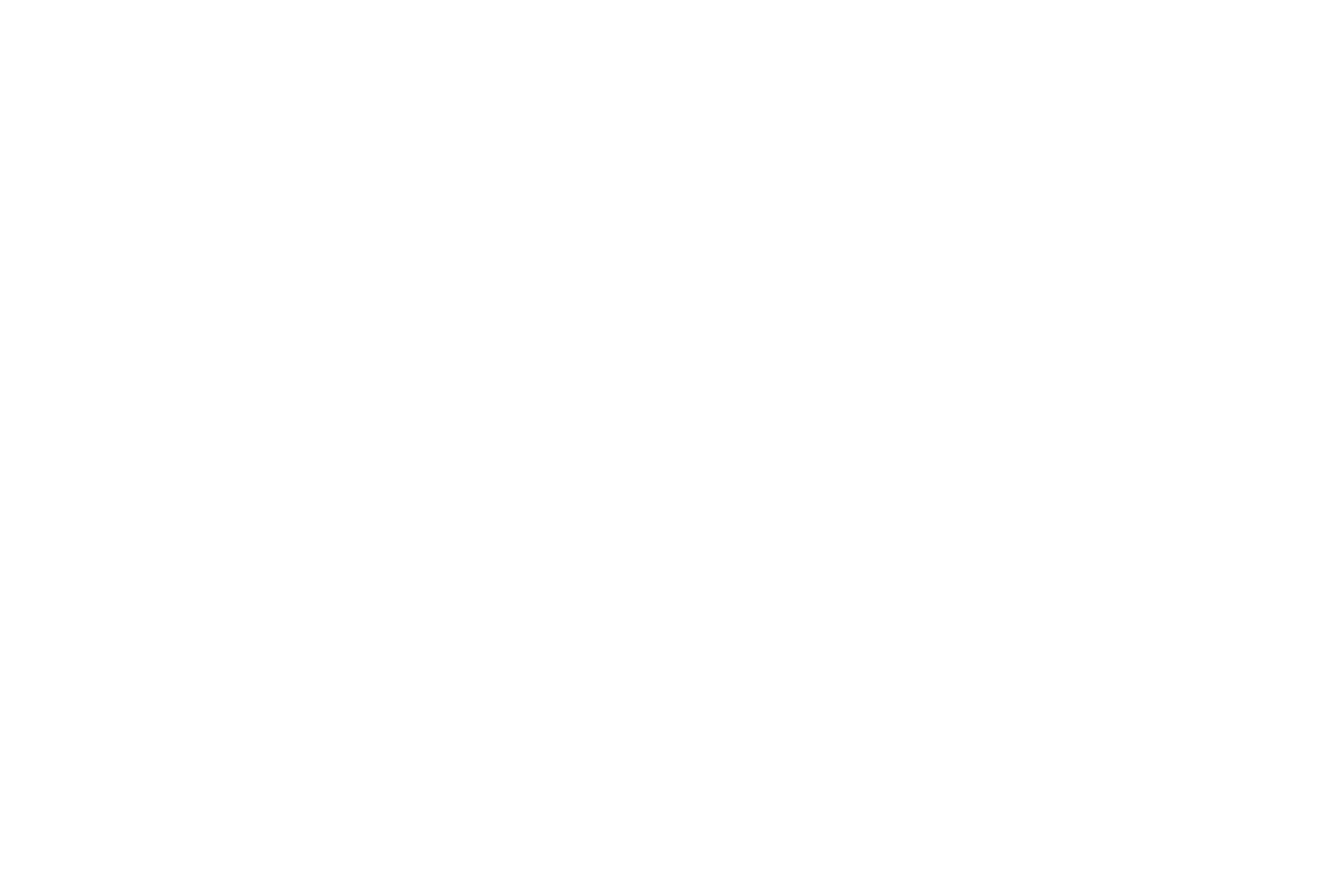
На авансцену выходит главный герой - крепкий и выносливый битюг вороной масти, играющий Самсона Вырина (Владимир Овчинников). Дочь свою Вырин любит безмерно: между ними та безмолвная игра взглядов, жестов и движений, которая бывает у очень близких людей. Самсон-Овчинников контролирует внутренний хаос с помощью пословиц: каждое утро начинается с «кто рано встаёт – тому Бог подаёт», и день за днём катится с рыси в галоп под округлые народные сентенции. Летают чемоданы, летают монетки от приезжих, расторопная Дуня всё успевает, и на каждую монетку отца у неё приходится пять. И каждый вечер они складываются в чемодан и копятся – возможно, той же Дуне на приданое.
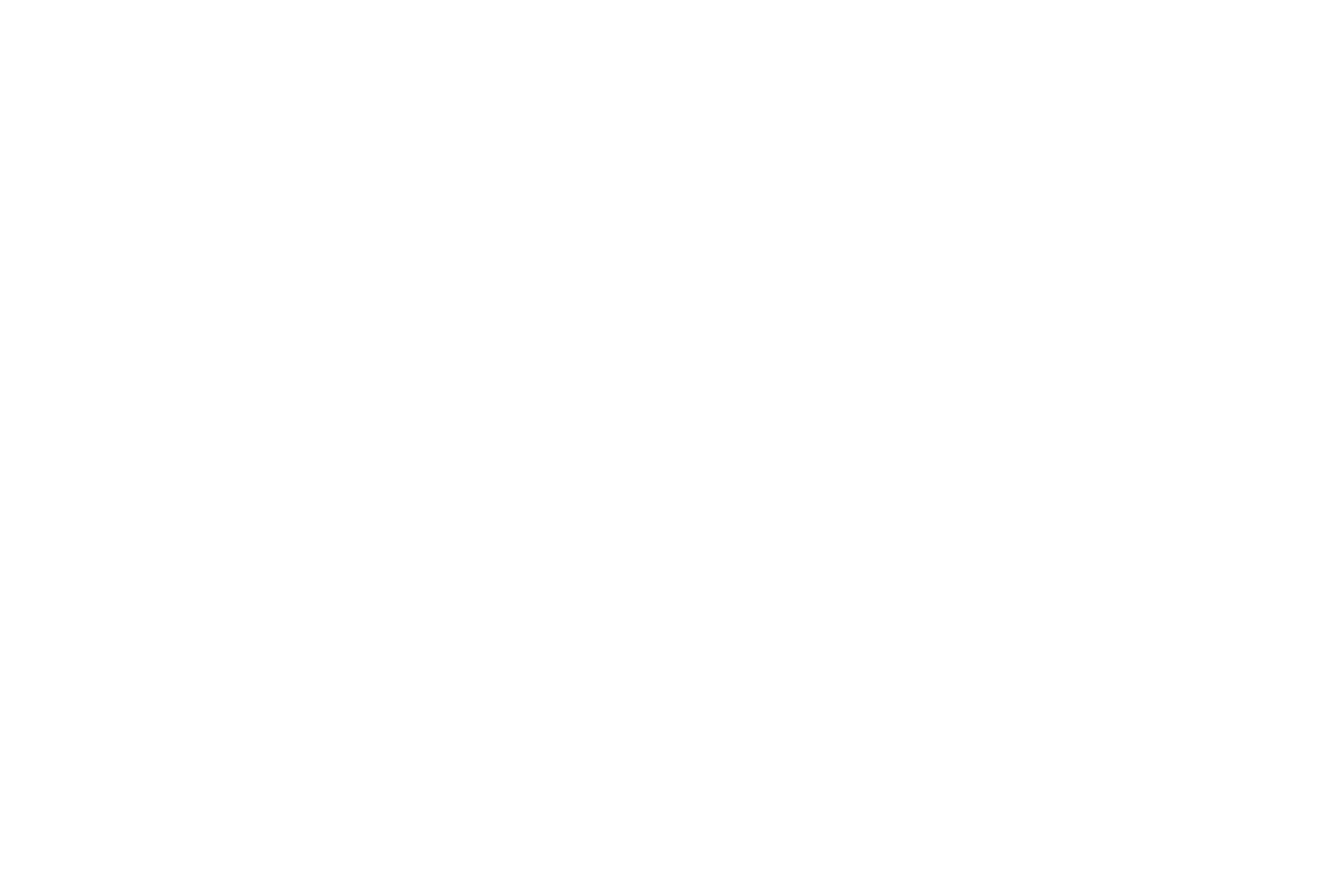
Но, когда все дневные дела переделаны и пословицы иссякли, снова наступает 26 августа 1812 года – самое кровопролитное из однодневных сражений… И Вырин-Овчинников помнит об этом, и Дуня должна об этом помнить.
В этот странный, но пока устойчивый мир врывается, размахивая нагайкой, ротмистр Минский (Тимур Валиев), которого играет породистый орловский рысак. И на краткое время в домике смотрителя устанавливается зыбкое подобие Эдема: проблемы решаются сами собой, у Вырина появляется помощник, собеседник и собутыльник, а Дуня словно открывает в себе новые чувства – вплоть до обоняния. Именно тогда с арьерсцены приносят ведро с ярко-красными яблоками – первым цветовым пятном сценического мира спектакля: их будут есть лошади, изображая, как пьют Вырин с Минским.
В этот странный, но пока устойчивый мир врывается, размахивая нагайкой, ротмистр Минский (Тимур Валиев), которого играет породистый орловский рысак. И на краткое время в домике смотрителя устанавливается зыбкое подобие Эдема: проблемы решаются сами собой, у Вырина появляется помощник, собеседник и собутыльник, а Дуня словно открывает в себе новые чувства – вплоть до обоняния. Именно тогда с арьерсцены приносят ведро с ярко-красными яблоками – первым цветовым пятном сценического мира спектакля: их будут есть лошади, изображая, как пьют Вырин с Минским.
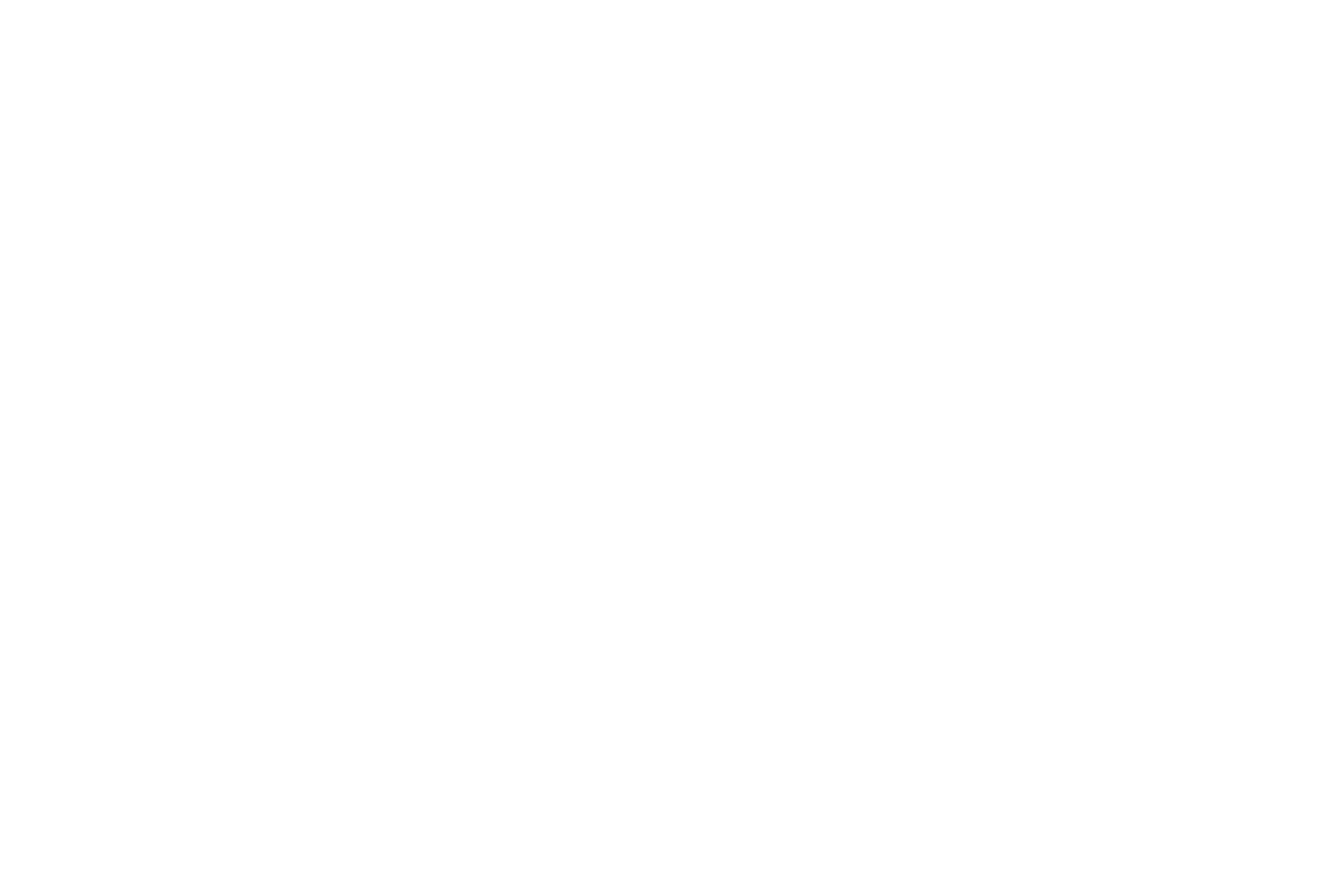
А потом мир рушится. Чемоданы падают, конюшня пустеет. И у Вырина-Овчинникова остаётся последний способ упорядочить хаос: он надевает мундир Измайловского полка, фуражку с красным околышем, в которой страшно мёрзнут уши, и под организующий ритм барабана-чемодана отправляется в Санкт-Петербург.
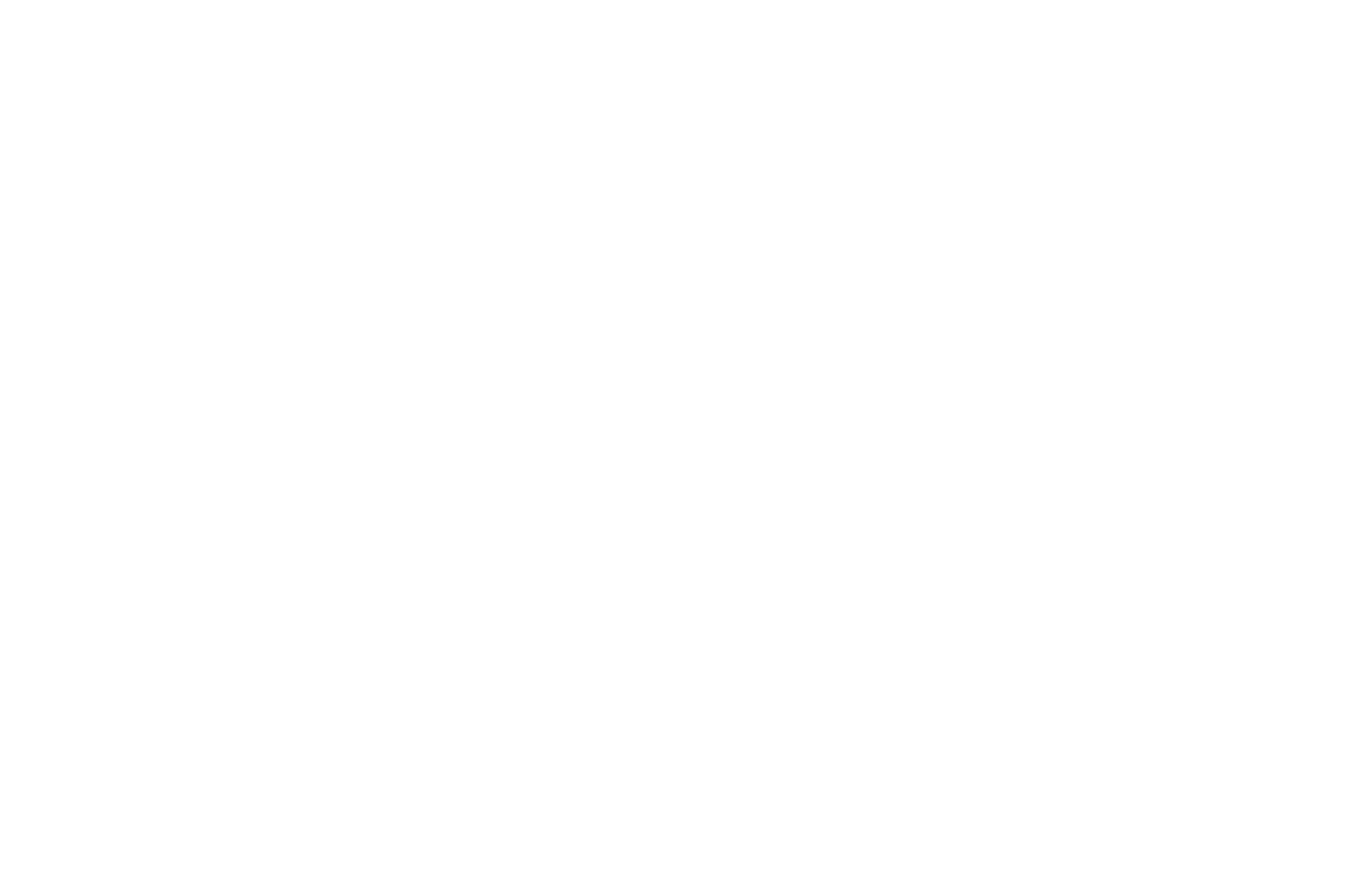
Главная мизансцена спектакля решена Тимуром Куловым по диагонали. Между отцом и дочерью натянута нить, на которой болтается Минский, но оба они смотрят сквозь него. Вырин-Овчинников идёт к дочери и готов принять её обратно: он раскрывает объятья и до какого-то момента верит, что она упадёт в них. И на обращённом к зрителям лице крупного артиста за мгновения последовательно отражается смена нескольких эмоций, и читать по нему можно, как по книге. Самсон видит, как Дуня прыгает на закорки Минскому точно тем же движением, что она когда-то прыгала на закорки к нему, и на лице его такая боль!
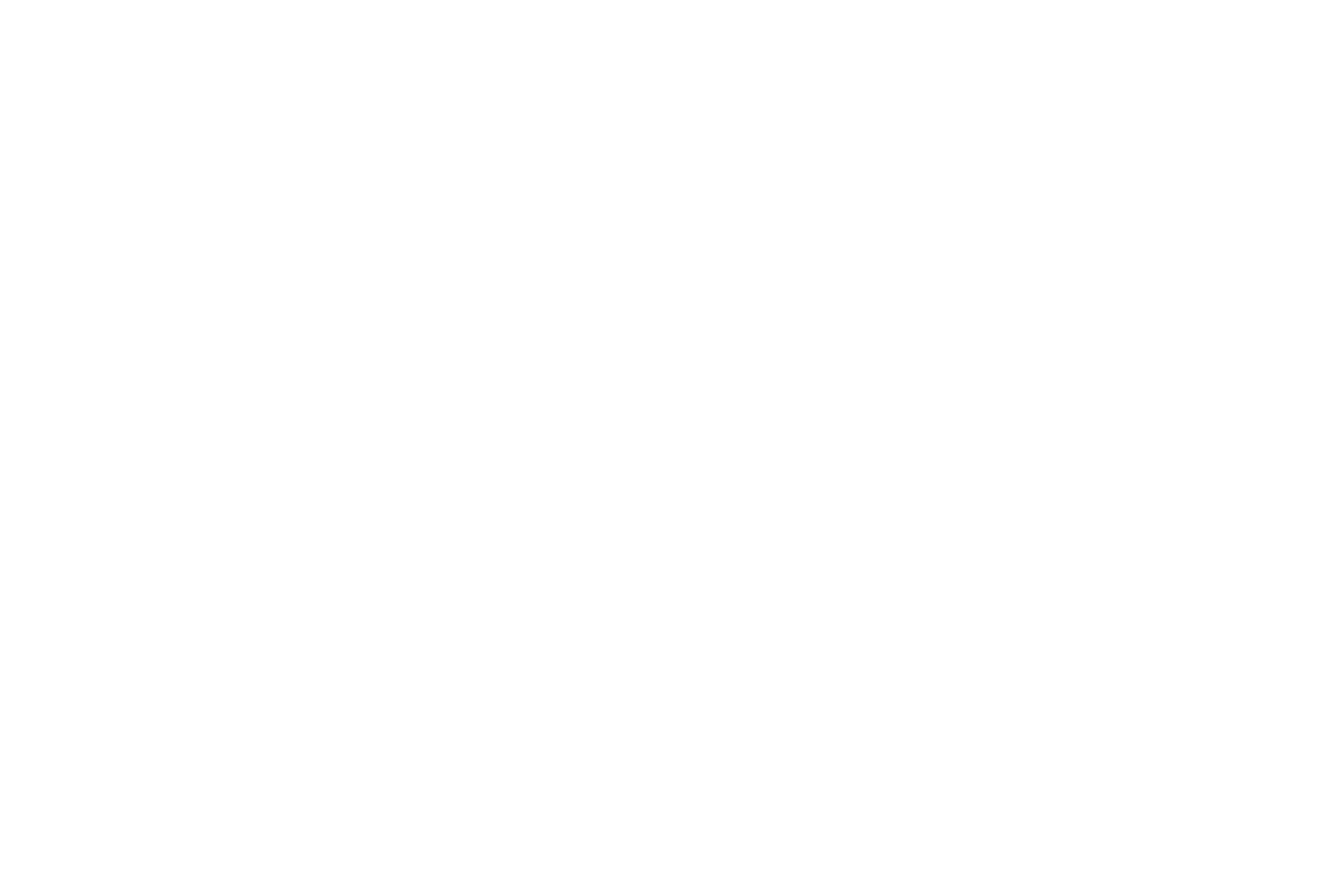
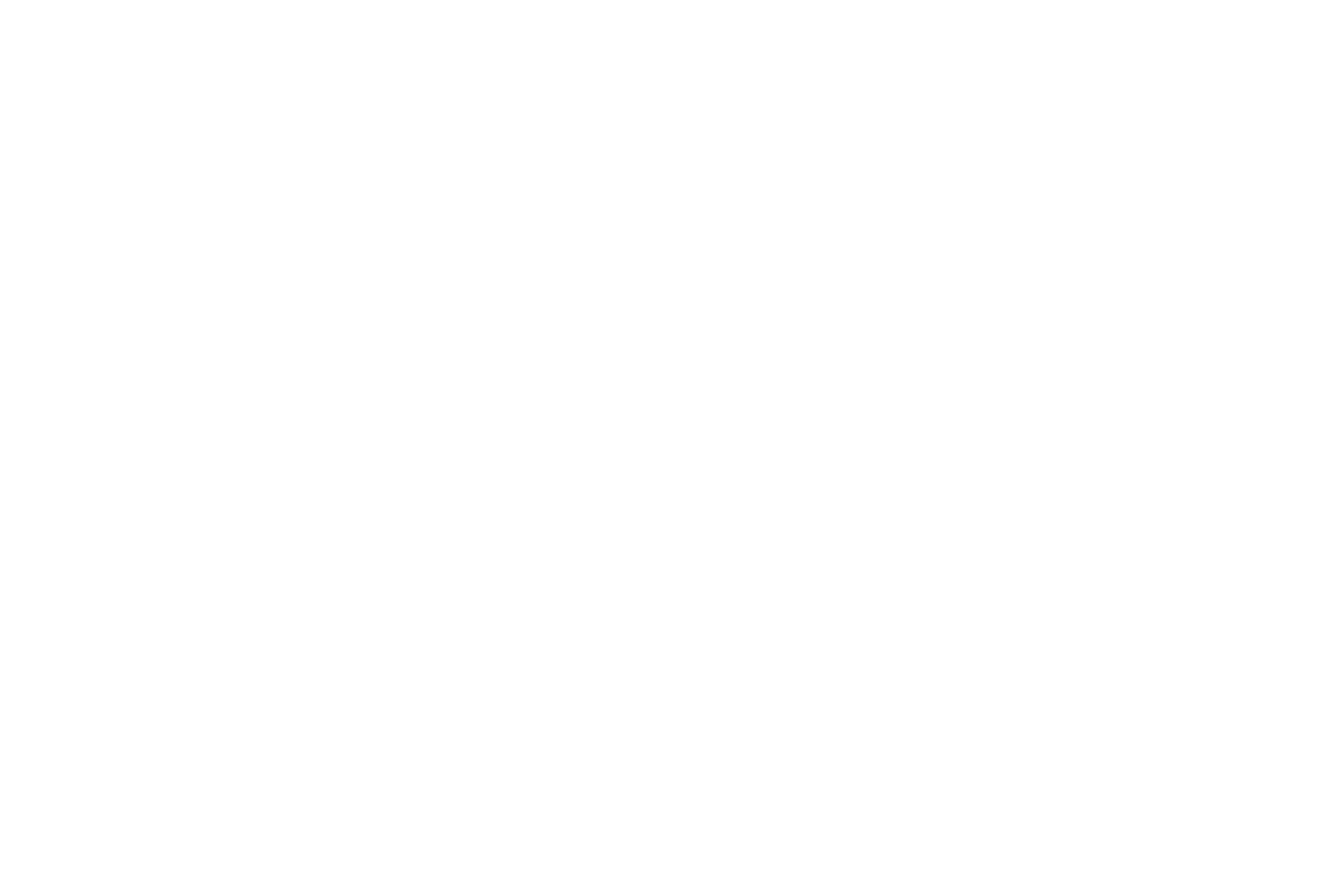
У Кулова между отъездом Дуни и её возвращением проходит больше времени. Но не дольше, чем живут лошади. То, чего ждал и желал Самсон, произошло – Дуня-Науменко вернулась. И в конце из обмолвок лошадей, которых всё не запрягают и не запрягают, мы понимаем, что барыня с тремя барчатами приехала сюда навсегда. Сначала она убегает от военного-отца к военному-мужу, но, в конце концов, убегает и от него: возможно, как раз началась Крымская война.
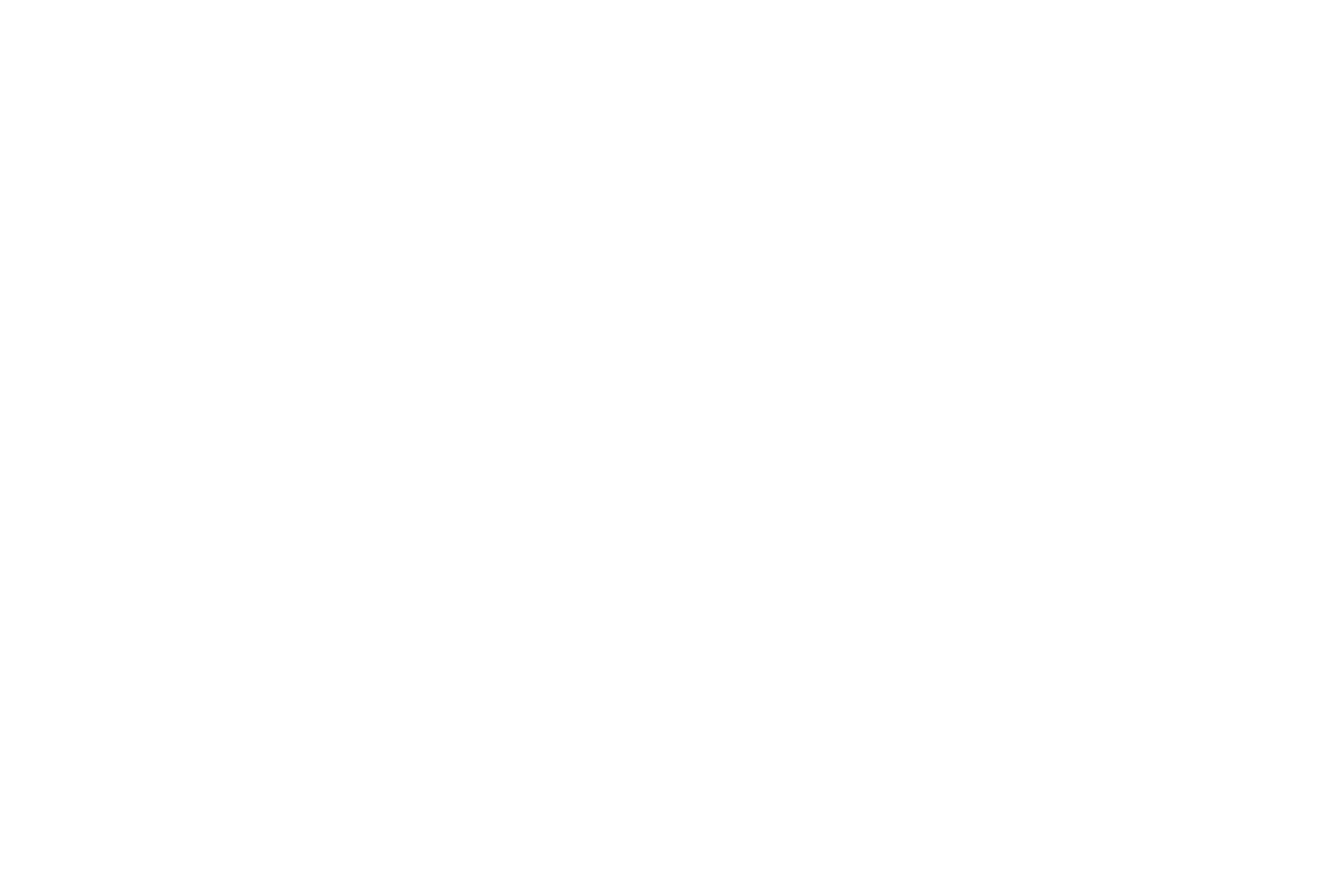
Эпилог меняет масштаб этой истории. Мы, сидящие в зале зрители, вместе с Дуней читаем письмо Самсона Вырина, где он рассказывает, как закапывал мундир и барабан… И полная символов небытовая история вырастает до жанра притчи.
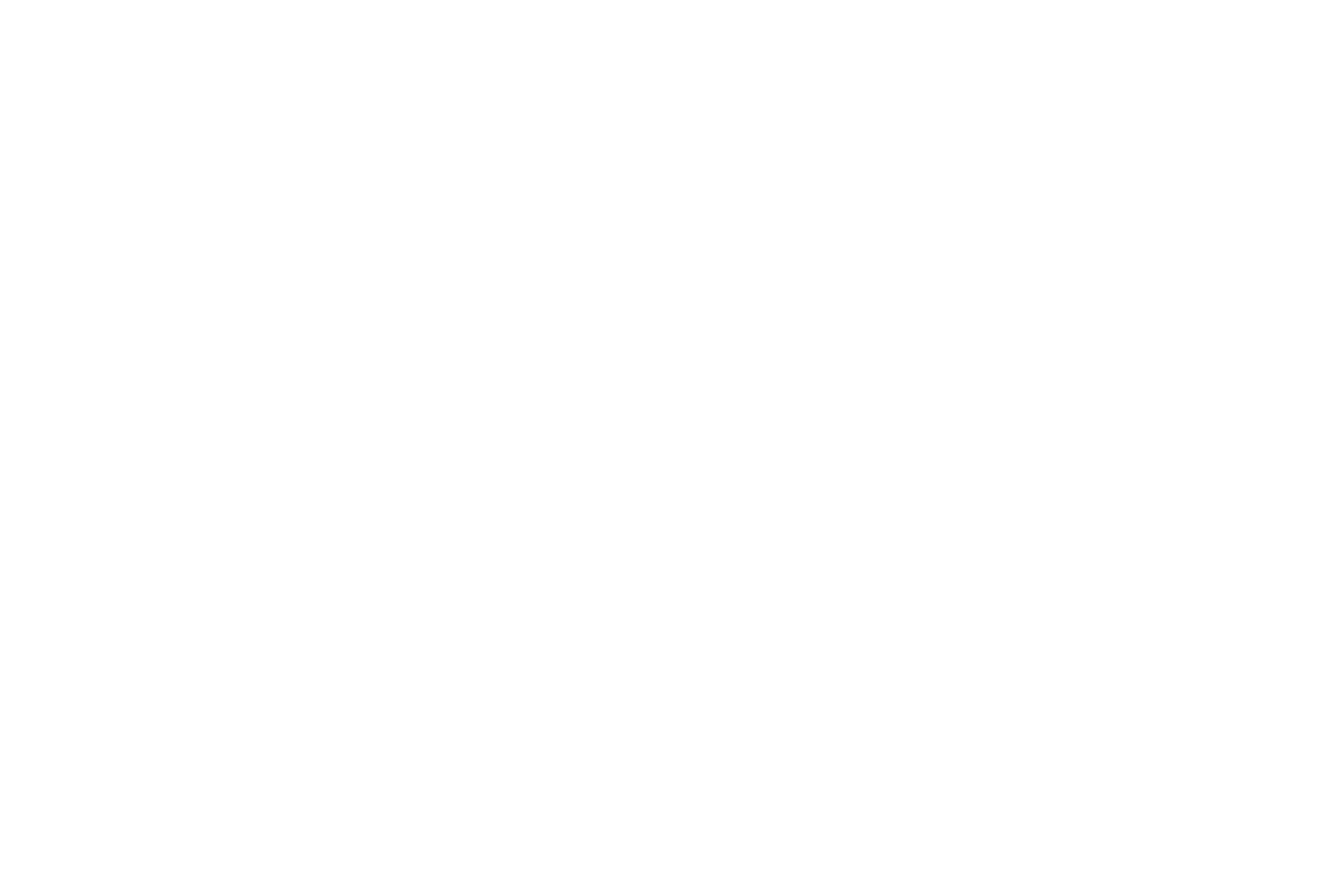
Фестиваль русскоязычных зарубежных театров «Театральная осень. Играем классику» предоставляет зрителям возможность увидеть спектакли не только разных стран, но и разных жанров, тем самым давая некий срез современной театральной жизни.
Напоминаем, что «Арка» проводит конкурс зрительского отзыва.
Дорогие зрители и читатели «Арки»! Вы представить не можете, как важны и интересны для нас ваши отзывы на спектакли, как интересно их читать. До 20 сентября включительно каждый может прислать отзыв на любой спектакль фестиваля в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Лучшие отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самой интересной и оригинальной оценки будет награждён помимо публикации ещё и памятным призом от редакции.
Дорогие зрители и читатели «Арки»! Вы представить не можете, как важны и интересны для нас ваши отзывы на спектакли, как интересно их читать. До 20 сентября включительно каждый может прислать отзыв на любой спектакль фестиваля в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Лучшие отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самой интересной и оригинальной оценки будет награждён помимо публикации ещё и памятным призом от редакции.
События