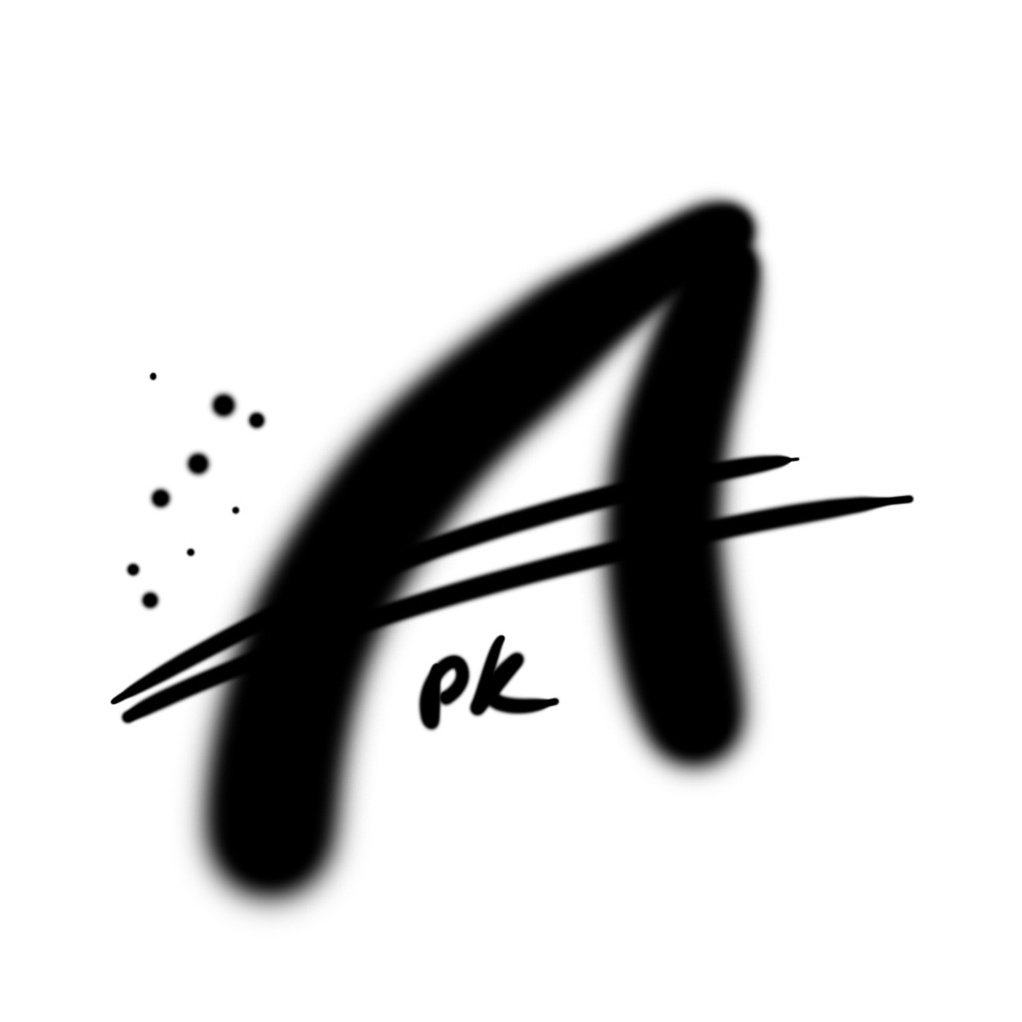Ты не зря пришёл, ты не зря пришёл: Гоголь – это хорошо, это хорошо…
Открытие V Фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Театральная осень. Играем классику» состоялось на крыльце Театра кукол Карелии, и открыл его сам Пушкин.

Текст: Наталия Крылова, фото: М.Никитин
Фестиваль начался ударно в прямом смысле. На проспекте Карла Маркса стояла ударная установка, в которую самозабвенно колотили артисты Национального театра Карелии, напротив них веселилась театральная публика. Александр Сергеевич перечислял страны, из которых приехали в Петрозаводск театры, красавицы-Мимилашки галантно провожали зрителей в вестибюль, а охранники-волки внимательно следили за порядком. Случайные прохожие выхватывали телефоны и начинали снимать непонятное им, но такое захватывающее представление.
Затем действо перетекло в фойе театра, и рэп с рефреном «Пушкин – это хорошо, Гоголь – это хорошо…» задал верный тон фестивалю, в афише которого спектакли по Пушкину, Гоголю, Островскому, Булгакову и т.д. Приветственные слова первого заместителя министра культуры Карелии Екатерины Виноградовой и генерального директора фестиваля Сергея Шуба перед «Ревизором» тоже были краткими и неформальными. «К нам едет… Вернее, уже приехал… фестиваль», – с этих слов заместителя министра фестиваль и начался.
Режиссёр Игорь Казаков поставил трагический фарс, в котором главным формо- и смыслообразующим принципом является гротеск. Автор визуального решения художник Татьяна Нерсисян создала перекошенное пространство постановки, где действуют уродливые персонажи, на лицах которых словно застыло финальное выражение гоголевский «немой сцены». Театральные маски требуют особой пластики, музыки и света, и хореограф Евгений Иванов, композитор Евгений Мильков и художник по свету Дмитрий Зименко сделали кукол говорящими и живыми. Они так выразительны, их жесты, зависящая от света мимика, музыкальные лейтмотивы настолько говорящи, что объём гоголевского текста становится несколько избыточным. Несмотря на неоднократные сокращения, от длиннот, как и от монологов, уйти сложно. К финалу чаще звучат короткие реплики, и темпоритм спектакля ускоряется. В сцене взяток самой яркой мизансценой оказывается пластически решённая взятка Луки Лукича Хлопова (Ирина Будникова).
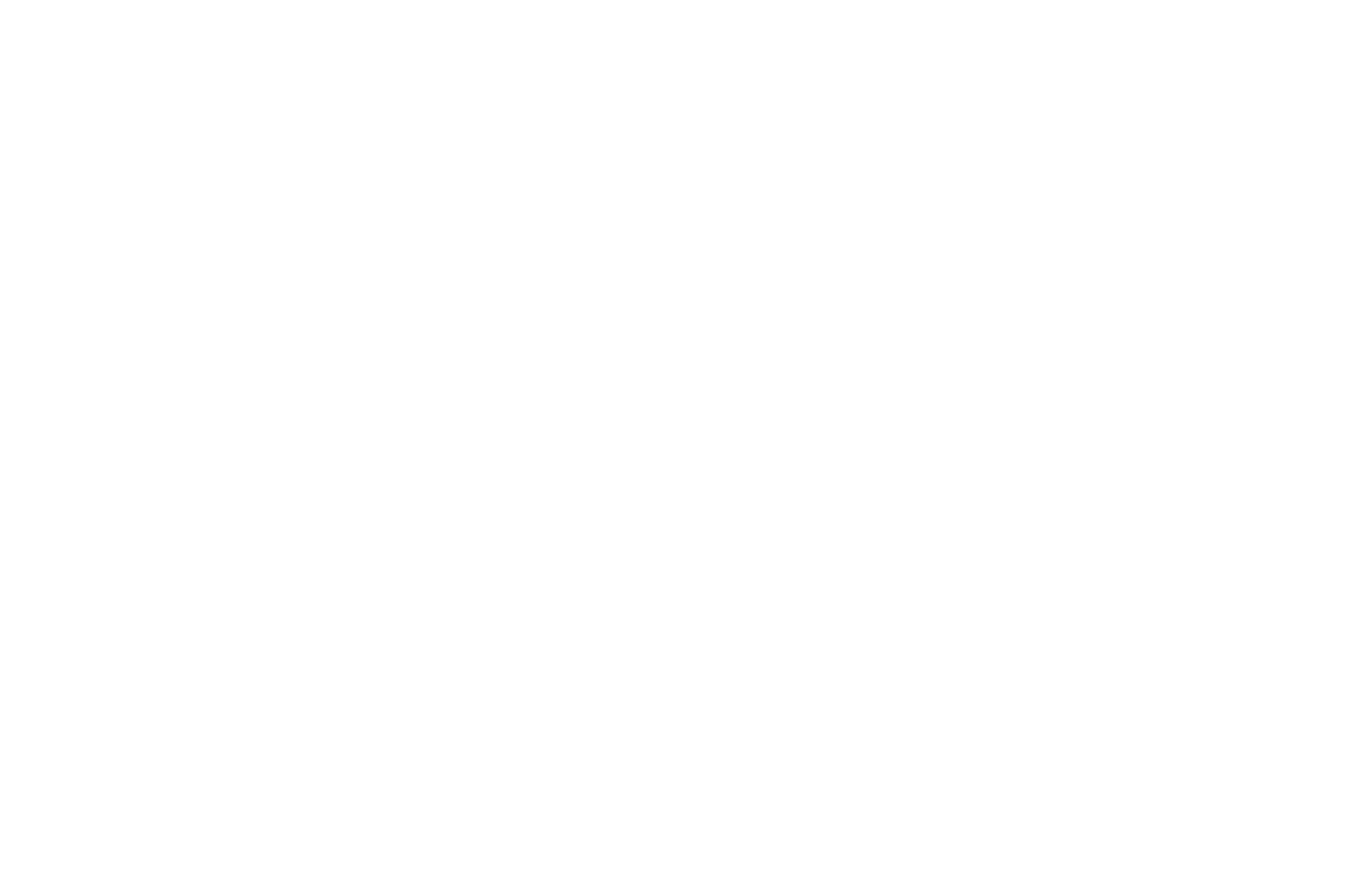
Городничий (Олег Романов)
О конфликте куклы и драматургии сказала и критик Наталья Жемгулене, которая заметила, что спектакль очень органично вбирает в себя все изменения. Критик Полина Никитина начала своё выступление с «исторического родственника» – спектакля «Ревизор» 1927 года режиссёра Игоря Терентьева, о котором можно почитать здесь: https://theatremuseum.ru/naukpubl/revizor. Это очень точная аллюзия, действительно, в двух спектаклях даже есть схожие мизансцены: например, та, где Городничий встаёт на четвереньки.
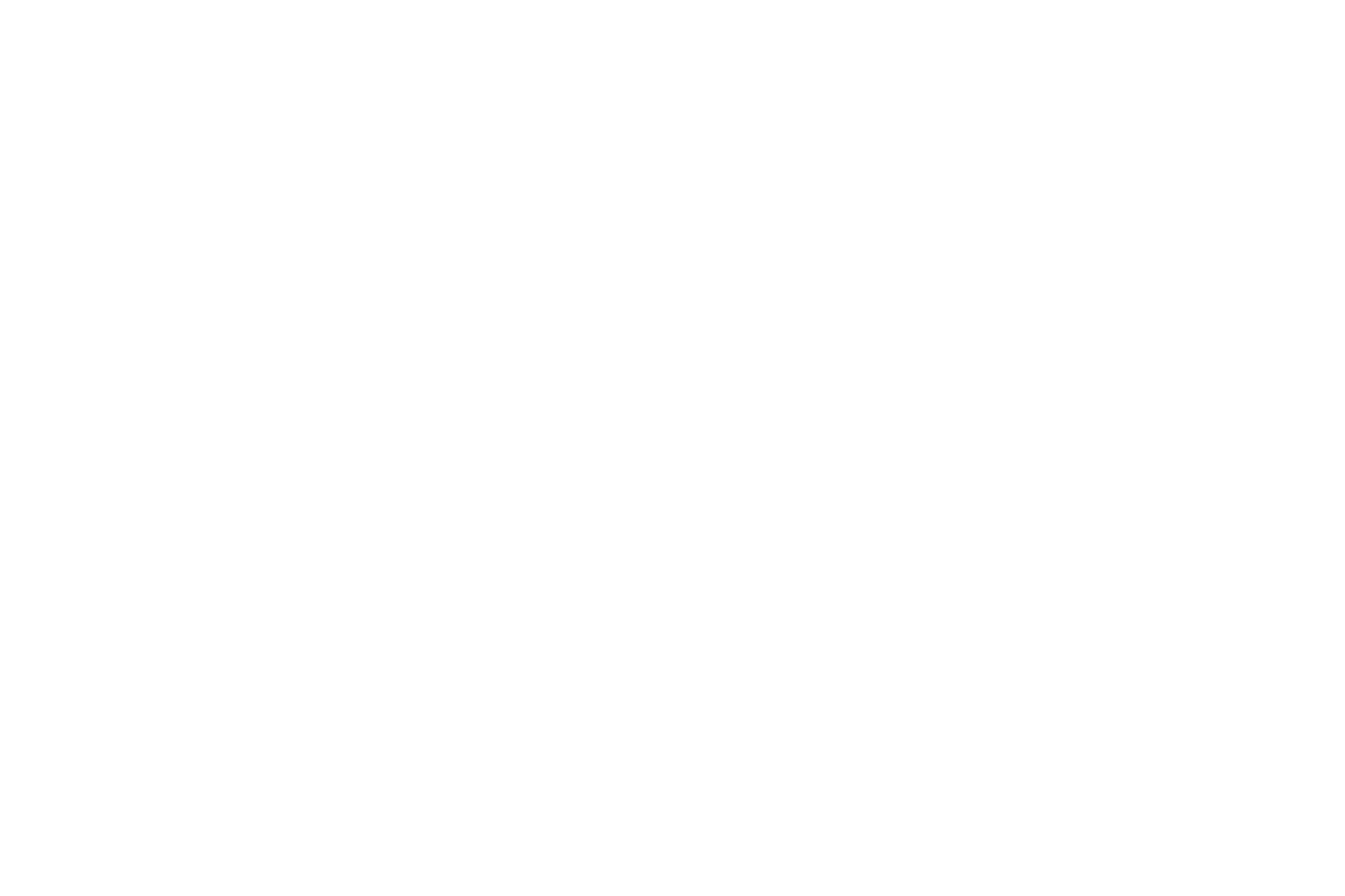
клирик (Марина Збуржинская), Добчинский-Бобчинский (Антон Верещагин), Земляника (Наталья Василева)
В спектакле Игоря Казакова (как и в спектакле Игоря Терентьева 1927 года) карнавализация неразрывно связана согласно Бахтину с концепцией «телесного низа». Перевёрнутая ситуация пьесы, когда «фитюлька» занимает положение «государственного человека», а сильные мира сего – чиновники и Городничий – оказываются в подчинённом положении и проявляют свою «телесно-низменную» сущность: страх, заискивание, жадность, льстивость. Однако если карнавал Гоголя всё-таки является временным перевёртышем и не разрушает мир, то Казаков идёт дальше, ведя своего Городничего к сумасшествию и одиночеству.
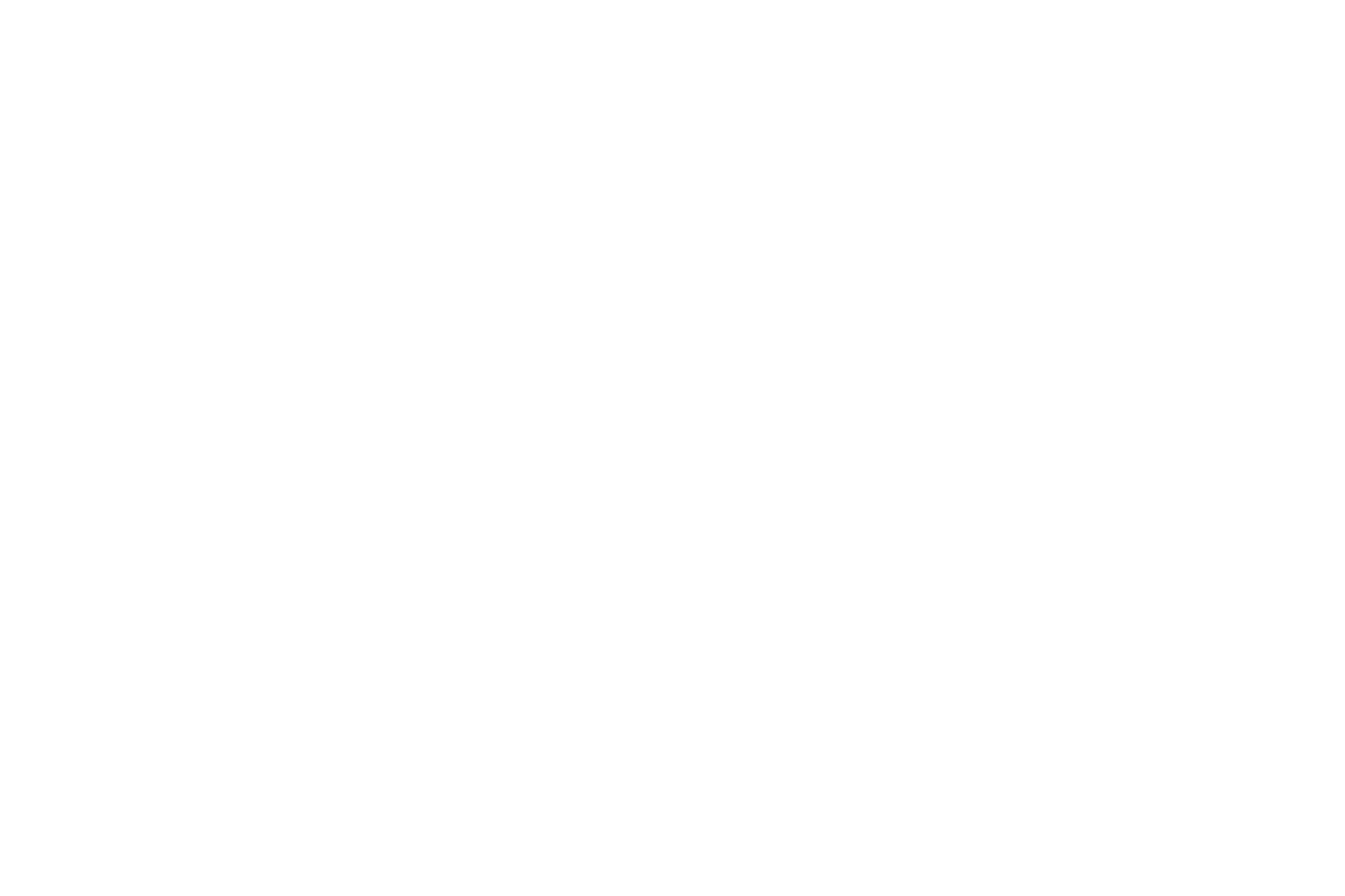
Судья (Дмитрий Будников)
Как инсайт прозвучал и заданный Полиной Никитиной вопрос: «Чего боится Городничий?». А ведь нынешнему Городничему есть что терять. Спектакль про мир монстров, в котором никто не любит друг друга, остался в 2022 году, сегодняшний спектакль глубже и – как ни странно – человечнее. Удивительно, но у Городничего есть семья и друзья, у него есть даже по-своему тёплые отношения с окружающими. Вот Городничий (Олег Романов) с Судьёй (Дмитрий Будников), надувшись, стоят спинами друг к другу и толкаются локтями, словно друзья-школьники на переменке. Вот Городничий прикрикнул на жену, но тут же сбавил тон и почти нежно договорил: «Душа моя». В сцене, где супруги витают в эмпиреях, представляя, как заживут в Петербурге, они сидят рядком и трогательно держатся за руки. И в самом финале, когда чиновники сожалеют, кто сколько денег отдал «фитюльке», вспоминают о потерях Городничего и растерянно расступаются: «Антон Антонович…», то в голосах их неожиданно звучат ужас и искреннее сочувствие.
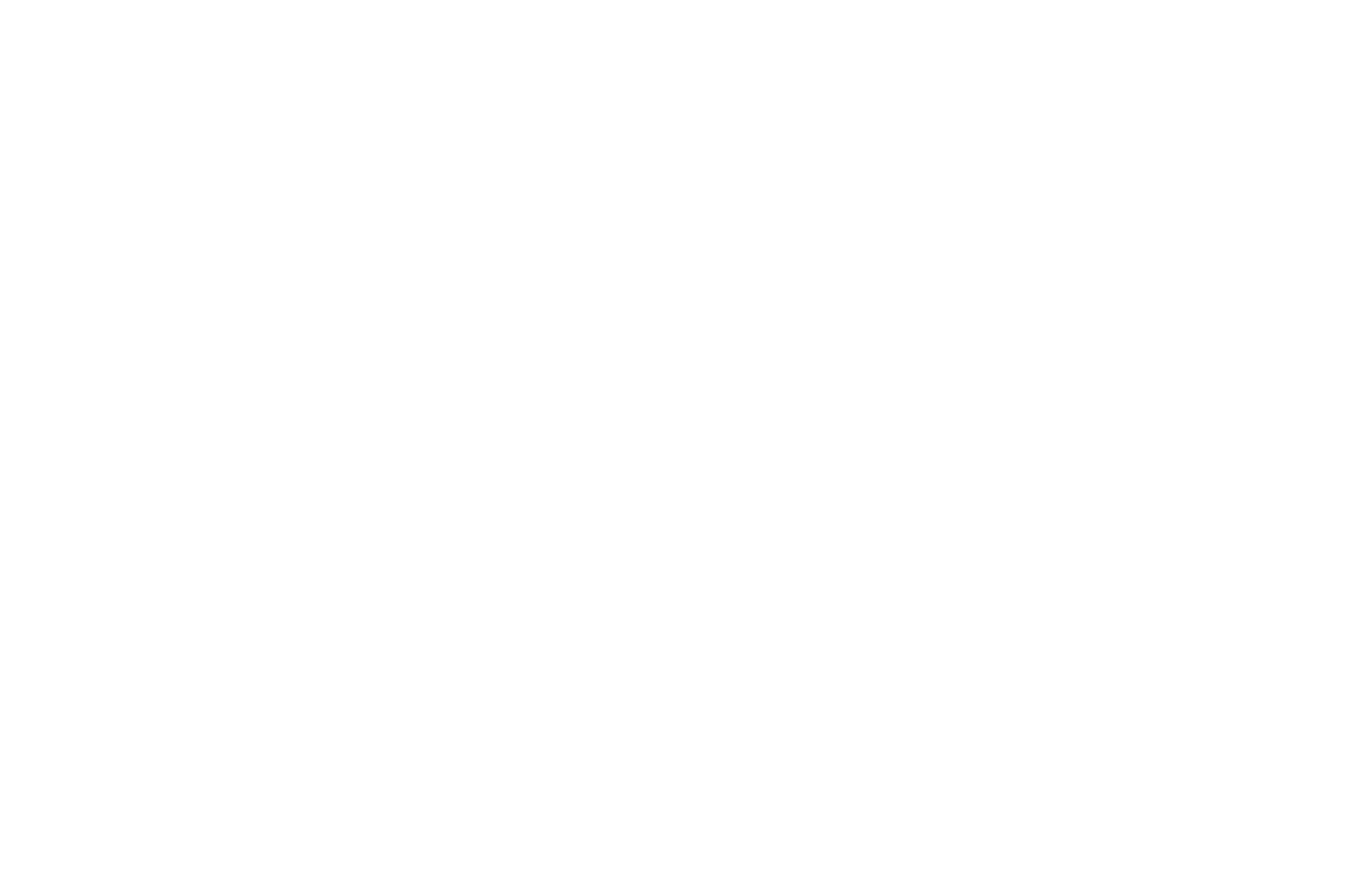
За три года насыщенной сценической жизни спектакль выкристаллизовался прежде всего в плане актёрских работ: внутренняя механика спектакля работает, как часы – тут и точность движений и жестов, и речевая и ритмическая чёткость. Отлично держит пластический рисунок персонажа Родион Михно (Хлестаков). Екатерина Швецова создаёт целостный сценический образ навсегда замечтавшейся Марьи Антоновны с помощью нелепых поз и жестов, странноватой манеры держаться, детской непосредственности речи. Анна Андреевна Любови Бирюковой участвует в нескольких великолепных дуэтах – с дочерью, с Хлестаковым и с Городничим, и речевая характеристика, интонирование и мелодика меняются в зависимости о того, с кем Городничиха говорит.
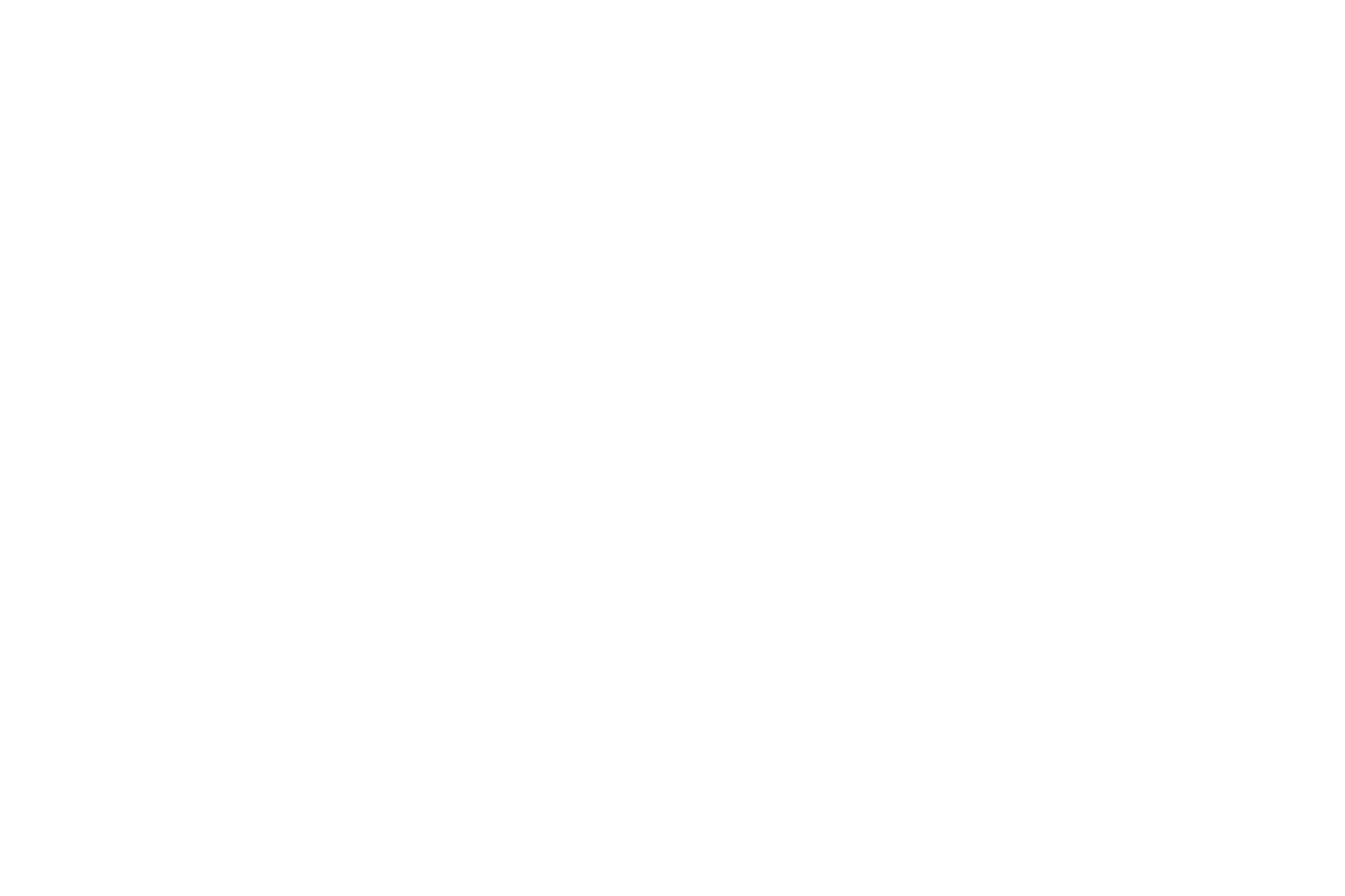
Анна Андреевна, (Любовь Бирюкова),Марья Антоновна,
(Екатерина Швецова)
(Екатерина Швецова)
Вообще в спектакле у каждого актёра-персонажа есть своё яркое соло. Вот Добчинский-Бобчинский (Антон Верещагин) чётко артикулируемой скороговоркой рассказывает, как они с Петром Ивановичем впервые встретили в трактире Хлестакова. Провинившись, Свистунов-Пуговицын-Держиморда (Светлана Романова) падает на свои головы-кулаки и начинает отжиматься. Для чиновников таким сольным номером становится сцена взятки: дымящийся от страха Ляпкин-Тяпкин (Дмитрий Будников), кривляющийся Шпекин (Владислав Тимонин), лебезящий Земляника (Наталья Василева). И даже клирик (Марина Збуржинская) имеет своё собственное соло, лихо отплясывая на переднем плане в сцене danse macabre.
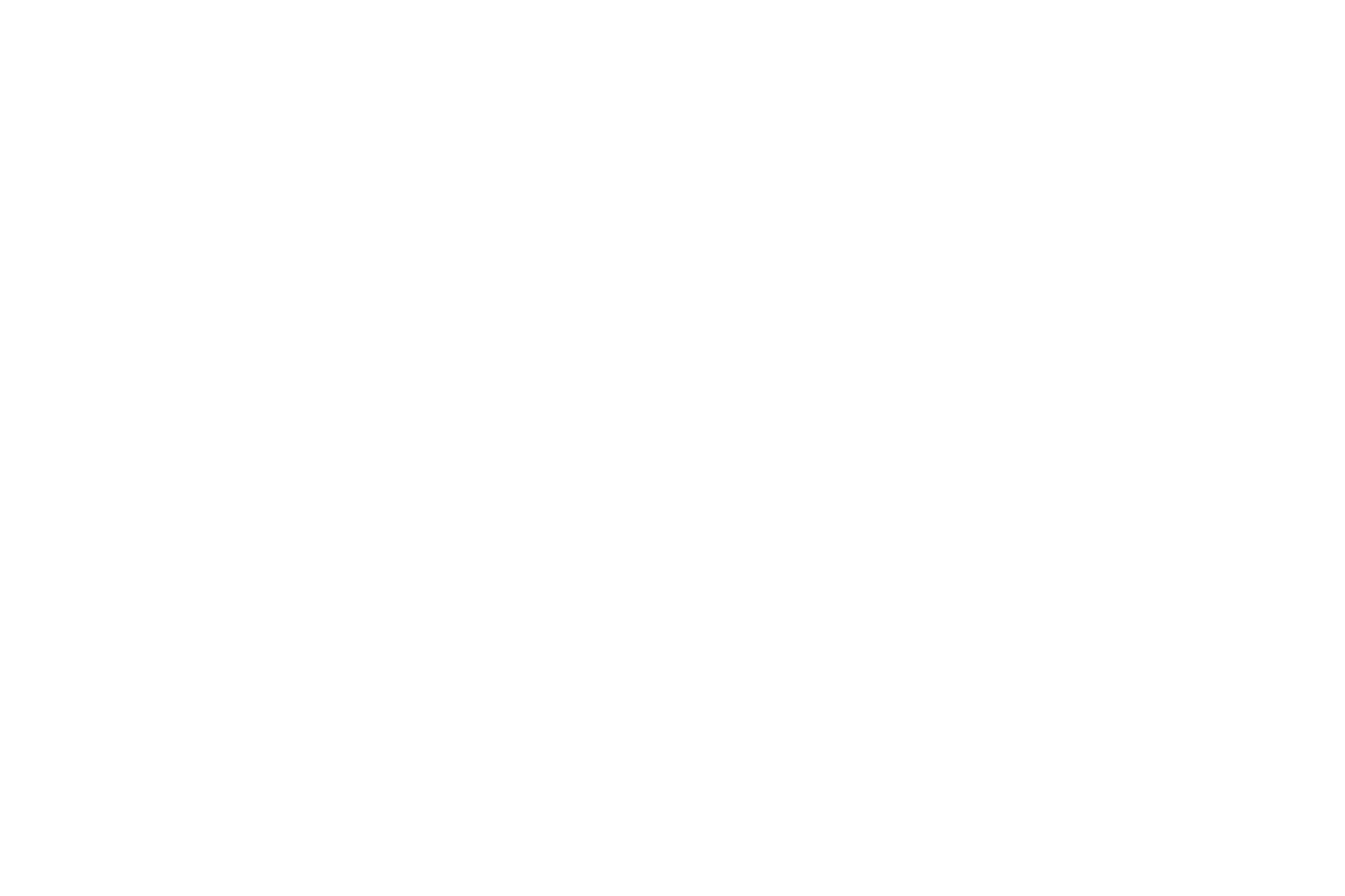
Виденный десятки раз «Ревизор» зазвучал в рамках фестиваля русских театров зарубежья по-новому. Казалось бы, спектакль уже сыгран более пятидесяти раз, объехал множество фестивалей и продолжает расти как за счёт актёрского наполнения персонажей, так и за счёт постановочных уточнений. Крысы теперь появляются не только в начале и в финале, но сопровождают весь путь Городничего к сумасшествию, неожиданно возникая то в одной, то в другой сцене как его личный морок. Проекция Зимнего дворца в сцене мечтаний и появление ластящейся к Городничему Крысы и его человеческой реакции на неё делает эту мизансцену ещё более небытовой, иллюзорной, фантастической. Тем круче становится поворот от счастья к несчастью – по Аристотелю.
«Ревизор» дал фестивалю мощный старт. Ждём следующих спектаклей!
«Ревизор» дал фестивалю мощный старт. Ждём следующих спектаклей!
Напоминаем, что «Арка» проводит конкурс зрительского отзыва. До 20 сентября включительно можно прислать отзыв на любой спектакль фестиваля (тут надо ссылку на полную афишу) в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Лучшие отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самого интересного отзыва будет награждён помимо публикации ещё и памятным призом от редакции.
События