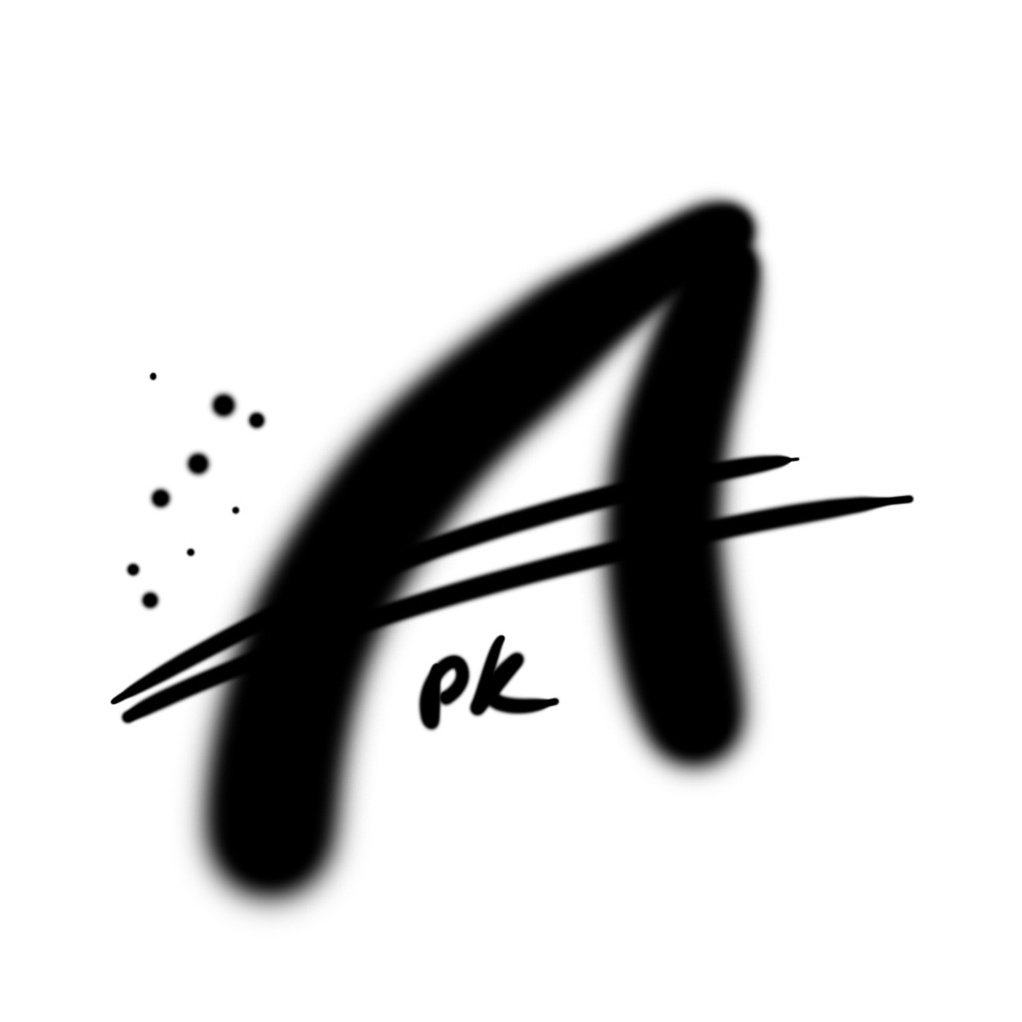«Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты», - такой вопрос-утверждение был бы вполне уместен в семье Романовых. Библиограф Сектора редких книг и работы с книжными памятниками Национальной библиотеки РК Елена Вознесенская рассказывает нам про издания из той самой семьи, попутно останавливаясь на любопытных моментах царской жизни.
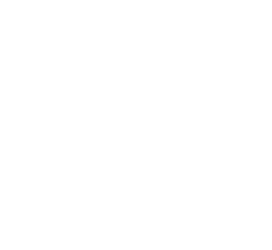
ЦАРСКОЕ ЛИ ДЕЛО – ЧТЕНИЕ, ИЛИ КНИГИ ИЗ ДВОРЦА
Текст: Елена Вознесенская
Про чтение в семье Романовых и библиотеки членов Императорского дома написано уже немало. Цветные фотографии роскошных подносных и повседневных, обычных экземпляров, принадлежавших когда-то российским императорам, великим князьям, их женам и детям, можно увидеть, например, в издании Валерия Дурова «Книга в Семье Романовых» (Москва, 2000). Но всегда ведь интересно узнать, а сохранилось ли хоть что-нибудь из этого богатства в нашем городе и в нашей библиотеке?
Вы, наверное, удивитесь, но в «Галерее экслибрисов» на сайте Национальной библиотеки Карелии есть целый раздел, который так и называется «Экслибрисы библиотек Императорского дома Романовых».
Сейчас в нем десять личных книжных знаков и три знака дворцовых библиотек. Мы описали не только экслибрисы (бумажные владельческие наклейки), но и суперэкслибрисы – монограммы на переплетах книг и журнальных томов, которые идентифицировать было гораздо труднее. Посмотрим, что же читали члены российского Императорского дома?
Вы, наверное, удивитесь, но в «Галерее экслибрисов» на сайте Национальной библиотеки Карелии есть целый раздел, который так и называется «Экслибрисы библиотек Императорского дома Романовых».
Сейчас в нем десять личных книжных знаков и три знака дворцовых библиотек. Мы описали не только экслибрисы (бумажные владельческие наклейки), но и суперэкслибрисы – монограммы на переплетах книг и журнальных томов, которые идентифицировать было гораздо труднее. Посмотрим, что же читали члены российского Императорского дома?
Вот огромный «Российской атлас, из сорока трех карт состоящий и на сорок одну губернию империю разделяющий», составленный Александром Вильдбрехтом и изданный при Географическом департаменте в Петербурге в 1800 году. Открывается он полутораметровой генеральной картой империи, на которой разными цветами обведены границы всех губерний, в том числе и двух колоссальных, поделивших всю азиатскую часть России – Тобольской и Иркутской. Отдельной Олонецкой губернии в атласе еще нет (она появится через год), а большая часть ее территории относится к губернии Новгородской. Интересно рассматривать рисунки, сопровождающие каждую карту, на которых малыши-путти занимаются тем промыслом, который был наиболее развит в губернии. На новгородской карте тепло одетый путти держит в руке топорик, задумчиво глядя на деревянную заготовку для будущего судна, за ним вырастает корабельный остов, а рядом – чугунная пушка и ядра. Вот такие мы судостроители и литейщики. Все побережье Белого моря и в том числе Кемский уезд относились к обширной Архангельской губернии. Здесь из-за близости Северного Ледовитого океана даже путти не выживают, зато на картинке, опираясь на корабельный руль, сидит Меркурий с кадуцеем в руке, а рядом старец в монашеском одеянии. Вдали также строятся корабли и идет охота на ужасного морского зверя. Все понятно: главное занятие населения здесь торговля да морские промыслы, а кто не торгует, тот душу свою спасает в суровых северных монастырях.

Чья же рука листала этот атлас, в чьей библиотеке он хранился до того, как попал к нам? На форзаце его наклеены сразу два экслибриса. На первом в круглой рамке две буквы «А» (одна обычная, другая перевернутая) и наложенная на них горизонтально буква «Н» под императорской короной, а на втором – надпись, стилизованная под древнерусскую вязь (это особый тип письма, при котором буквы расположены очень компактно и часто вписаны одна в другую). Сделаем усилие и прочитаем ее: «Князь Алексий Борисович Лобанов-Ростовский», то есть атлас когда-то принадлежал сенатору, дипломату, историку и коллекционеру Лобанову-Ростовскому. После смерти князя в 1896 году восемь с половиной тысяч томов из его библиотеки были приобретены императором Николаем II, недавно унаследовавшим престол, и таким образом эта коллекция стала двенадцатой из числа Собственных Его Императорского Величества библиотек, размещенных в залах Зимнего дворца. Именно для того, чтобы это собрание не утратило свою цельность, и была заказана мемориальная наклейка с именем его бывшего владельца.
Экслибрис Николая II
Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский
Барон Арминий Фелькерзам
Первый же экслибрис, как все уже догадались, принадлежит новому владельцу «Российского атласа» – императору Николаю II. Возможно, он покажется вам не слишком удачным: лишняя буква «А» в монограмме («НА» означает «Николай Александрович»), неловкое наложение всех трех букв, читающихся с разных ракурсов по кругу, объясняется отчасти тем, что автор экслибриса все-таки не был профессиональным художником. Барон Арминий Фелькерзам, в недалеком будущем хранитель отдела драгоценностей Императорского Эрмитажа, нарисовал первый книжный знак для великого князя Николая Александровича еще в бытность того наследником престола, и с тех пор рисунок экслибриса не менялся.
Другое дело – изящный книжный знак деда Николая II, императора Александра II. Гравированный по рисунку неизвестного художника, он также состоит лишь из вензеля «АН» под императорской короной, окруженной сиянием, но какая благородная простота в каждой его линии! Что же читал Царь-Освободитель, заслуживший благодарность потомков не только отменой крепостного права, но и демократическими реформами 1860-х – 1870-х годов, изменившими жизнь государства?
Другое дело – изящный книжный знак деда Николая II, императора Александра II. Гравированный по рисунку неизвестного художника, он также состоит лишь из вензеля «АН» под императорской короной, окруженной сиянием, но какая благородная простота в каждой его линии! Что же читал Царь-Освободитель, заслуживший благодарность потомков не только отменой крепостного права, но и демократическими реформами 1860-х – 1870-х годов, изменившими жизнь государства?
В нашем фонде ему принадлежал годовой комплект «Журнала мануфактур и торговли» за 1829 год. Это четыре тома (по три номера журнала в каждом), одетые в скромные переплеты, единственным украшением которых стало тонкое золотое тиснение на зеленых кожаных корешках. Переплетные крышки покрыты уже не кожей, а окрашены в ярко-зеленый цвет по бумажной основе. С годами краска облупилась и частично осыпалась, но за исключением этого досадного дефекта сами переплеты надежно сохранили журнальные номера, и комплект по-прежнему отражает интерес императора к вопросам хозяйственным, к новейшим изобретениям и открытиям. Нет, наверное, такого технического, экономического или сельскохозяйственного вопроса, которого не касались бы статьи «Журнала мануфактур и торговли». Здесь есть и подробные обзоры состояния фабрик и заводов в разных российских губерниях – Пензенской, Псковской, Курской, и такие новейшие открытия, которые вызовут улыбку у современного читателя. Чего стоит, например, «состав индейской туши» или рецепт «искусственного золота», полученного переплавкой платины, меди и цинка. Здесь перенимают зарубежный опыт («Новые прядильные машины, изобретенные в Америке») и печатают растянувшийся на три номера отчет о первой публичной выставке российских мануфактурных изделий, состоявшейся в том же 1829 году и демонстрировавшей достижения отечественной промышленности от паровых машин до пуховых шляп, искусственных цветов и «изделий из битой бумаги» (папье-маше). К одному из томов приложены два гравированных М. Плешаевым и раскрашенных от руки акварелью вида Петербурга, а именно того места, где проходила выставка. На них прекрасно видны Академия наук, Кунсткамера, ростральная колонна, здание Биржи и «Таможня, еще не оконченная», то есть нынешний Пушкинский Дом. Кстати, в числе губерний-участниц выставки названа и наша Олонецкая, а в списке вещей, купленных для Высочайшего двора, значится «икона Спасителя, чугунная» Александровского завода.

Александр II, подобно своему внуку, тоже не был первым владельцем этих экземпляров, что и не удивительно: в 1829 году, когда журнал вышел из печати, он сам был 11-тилетним великим князем. Судя по экслибрисам Императорской Эрмитажной русской библиотеки, Александр Николаевич «зачитал» интересные журнальчики из этого старейшего дворцового книжного собрания, основанного еще в XVIII веке Екатериной II для «развития вкуса» у своих придворных. Судьба иронична. В одном из номеров прочитанного царем журнала среди новейших изобретений упоминается бомба, хотя и не та, которой он сам был убит.
Почему-то в нашем фонде многие экземпляры связаны с ближним кругом именно Александра II – с его женой и сыном, братьями, племянниками. Так, на форзаце «Разговоров о множестве миров» Бернара Ле Бовье де Фонтенеля (Санкт-Петербург, 1761) встречается наклейка с текстом «Ее королевского высочества принцессы Марии Гессен-Дармштадтской, высоконареченной невесты государя наследника цесаревича». Цесаревич Александр Николаевич познакомился со своей будущей женой, 14-тилетней немецкой принцессой с длинным именем Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария (1824 – 1880), дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского, в 1839 году во время путешествия по Европе. Во время знакомства с ним девочка ела вишни и вынуждена была выплюнуть в руку косточку, прежде чем ответить неожиданно заговорившему с нею великому князю. Очарованный ее непосредственностью и отсутствием желания понравиться высокому гостю, великий князь по возвращении в Россию объявил о своем намерении жениться. Его мать, императрица Александра Федоровна была против, но, съездив в Дармштадт и познакомившись с избранницей сына, передумала. Через год цесаревич получил согласие родителей Марии на брак, и юная принцесса начала готовиться к поездке в Россию. 5 декабря 1840 года в церкви Зимнего дворца она приняла православие и с тех пор стала именоваться Марией Александровной (даром что ее отцом был Людвиг II Гессен-Дармштадтский и Прирейнский). На следующий день была отпразднована помолвка наследника престола с великой княгиней Марией Александровной, а 16 апреля 1841 года состоялось их торжественное бракосочетание.
Почему-то в нашем фонде многие экземпляры связаны с ближним кругом именно Александра II – с его женой и сыном, братьями, племянниками. Так, на форзаце «Разговоров о множестве миров» Бернара Ле Бовье де Фонтенеля (Санкт-Петербург, 1761) встречается наклейка с текстом «Ее королевского высочества принцессы Марии Гессен-Дармштадтской, высоконареченной невесты государя наследника цесаревича». Цесаревич Александр Николаевич познакомился со своей будущей женой, 14-тилетней немецкой принцессой с длинным именем Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария (1824 – 1880), дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского, в 1839 году во время путешествия по Европе. Во время знакомства с ним девочка ела вишни и вынуждена была выплюнуть в руку косточку, прежде чем ответить неожиданно заговорившему с нею великому князю. Очарованный ее непосредственностью и отсутствием желания понравиться высокому гостю, великий князь по возвращении в Россию объявил о своем намерении жениться. Его мать, императрица Александра Федоровна была против, но, съездив в Дармштадт и познакомившись с избранницей сына, передумала. Через год цесаревич получил согласие родителей Марии на брак, и юная принцесса начала готовиться к поездке в Россию. 5 декабря 1840 года в церкви Зимнего дворца она приняла православие и с тех пор стала именоваться Марией Александровной (даром что ее отцом был Людвиг II Гессен-Дармштадтский и Прирейнский). На следующий день была отпразднована помолвка наследника престола с великой княгиней Марией Александровной, а 16 апреля 1841 года состоялось их торжественное бракосочетание.
У Марии Александровны были свои экслибрисы (в нашем фонде книг с ними нет), но наклейку на Фонтенеле нельзя даже назвать книжным знаком в прямом смысле слова. Благодаря тому, что принцесса Мария названа здесь «высоконареченной невестой» цесаревича, можно точно датировать ее декабрем 1840 года или началом 1841 года (до 16 апреля). Возможно, именно такими хозяйственными наклейками отмечались книги и другое имущество только что переехавшей в Россию немецкой принцессы.
великий князь Михаил Николаевич
Больше всего в нашем фонде книг из библиотеки младшего брата Александра II, великого князя Михаила Николаевича (1832 – 1909). Комплекты журнала «Отечественные записки» за 1839 и 1841 годы (всего 18 томов) и две книги – «Царствование Елисаветы Петровны» Александра Вейдемейера (Санкт-Петербург, 1834) и «Сборник сведений по финляндским губерниям», изданный Центральным статистическим комитетом в 1892 году, – также имеют по два экслибриса. Один из них принадлежит самому великому князю, на нем изображены буквы «МН» под императорской короной на фоне орденской звезды, другой же – библиотеке Ново-Михайловского дворца, выстроенного для Михаила Николаевича на Дворцовой набережной в 1862 году. Правда, надолго поселиться здесь великому князю тогда не удалось, так как в конце того же года он был назначен наместником Его Императорского Величества на Кавказе и вынужден переехать в Тифлис, где и прожил почти двадцать лет. Наверное, Михаилу Николаевичу приятно было читать на Кавказе только что написанные и опубликованные в «Отечественных записках» стихи Лермонтова – «Дары Терека» (1839), «Кинжал» и «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью…») (1841) – и повесть «Фаталист» (1839), пока что еще не связанную с другими историями из жизни Печорина в единое произведение.
великий князь Николай Николаевич
1 марта 1881 года великий князь Михаил Николаевич в Петербурге вместе со своим царственным братом пил чай у двоюродной сестры, великой княгини Екатерины Павловны. Возвращающегося с этого чаепития в Зимний дворец Александра II на набережной Екатерининского канала уже поджидали «метальщики» Рысаков и Гриневицкий. Михаил Николаевич услышал первый взрыв и сразу прибыл на место покушения, но, увы, слишком поздно: император был смертельно ранен и вскоре скончался.
Михаил Николаевич, четвертый сын императора Николая I, так же, как и его старший брат, великий князь Николай Николаевич (1831 – 1891) никогда не был претендентом на российский престол. Николай Николаевич, которого называют Старшим, чтобы не путать с его же сыном, великим князем Николаем Николаевичем Младшим, с самого детства готовился к армейской службе. И в Крымскую, и в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов он находился в действующей армии, даже был назначен главнокомандующим, хотя особыми талантами полководца не обладал. Нам же от него достался журнал «Вестник Европы» за 1878 год и сочинение Леопольда Ранке «История Сербии по сербским источникам» (Москва, 1857). На форзаце обоих томов наклеен экслибрис великого князя, как две капли воды похожий на книжный знак его брата Михаила, только с монограммой «НН».
Известно, что судьба великих князей с рождения была предопределена. Так, четвертого сына Александра II и Марии Александровны, великого князя Алексея Александровича (1850 – 1908) с детства готовили к военно-морской службе. Еще младенцем он был зачислен в Гвардейский экипаж, мальчиком воспитывался под руководством известного мореплавателя, будущего адмирала Константина Посьета, с десяти лет участвовал во внутренних и заграничных плаваниях, а в 1871-1873 годах совершил кругосветное путешествие, посетив Северную и Южную Америку, Японию, Китай и вернувшись в Петербург через Сибирь. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов он начальствовал над всеми морскими командами на Дунае, и не удивительно, что назначенный в 1881 году главным начальником флота и морского ведомства великий князь рьяно взялся за перевооружение русских кораблей. За время его управления был создан отечественный океанский броненосный флот, по числу кораблей занимавший третье место в мире после британского и французского, строились эскадренные броненосцы и крейсера, были заново учреждены или переоборудованы порты – Севастопольский, Александра III в Либаве, Порт-Артур. В 1888 году Алексей Александрович был произведен в чин адмирала, и только разгром российского флота при Цусиме во время Русско-японской войны 1904-1905 годов заставил его просить об отставке. Великий князь отошел от дел и с 1906 года жил в Париже.
Михаил Николаевич, четвертый сын императора Николая I, так же, как и его старший брат, великий князь Николай Николаевич (1831 – 1891) никогда не был претендентом на российский престол. Николай Николаевич, которого называют Старшим, чтобы не путать с его же сыном, великим князем Николаем Николаевичем Младшим, с самого детства готовился к армейской службе. И в Крымскую, и в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов он находился в действующей армии, даже был назначен главнокомандующим, хотя особыми талантами полководца не обладал. Нам же от него достался журнал «Вестник Европы» за 1878 год и сочинение Леопольда Ранке «История Сербии по сербским источникам» (Москва, 1857). На форзаце обоих томов наклеен экслибрис великого князя, как две капли воды похожий на книжный знак его брата Михаила, только с монограммой «НН».
Известно, что судьба великих князей с рождения была предопределена. Так, четвертого сына Александра II и Марии Александровны, великого князя Алексея Александровича (1850 – 1908) с детства готовили к военно-морской службе. Еще младенцем он был зачислен в Гвардейский экипаж, мальчиком воспитывался под руководством известного мореплавателя, будущего адмирала Константина Посьета, с десяти лет участвовал во внутренних и заграничных плаваниях, а в 1871-1873 годах совершил кругосветное путешествие, посетив Северную и Южную Америку, Японию, Китай и вернувшись в Петербург через Сибирь. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов он начальствовал над всеми морскими командами на Дунае, и не удивительно, что назначенный в 1881 году главным начальником флота и морского ведомства великий князь рьяно взялся за перевооружение русских кораблей. За время его управления был создан отечественный океанский броненосный флот, по числу кораблей занимавший третье место в мире после британского и французского, строились эскадренные броненосцы и крейсера, были заново учреждены или переоборудованы порты – Севастопольский, Александра III в Либаве, Порт-Артур. В 1888 году Алексей Александрович был произведен в чин адмирала, и только разгром российского флота при Цусиме во время Русско-японской войны 1904-1905 годов заставил его просить об отставке. Великий князь отошел от дел и с 1906 года жил в Париже.
В первой половине 1880-х годов для великого князя на набережной Мойки был выстроен Алексеевский дворец, где он собрал хорошую библиотеку. Сообразно интересам владельца в нее приобретались книги по морскому делу и мореплаванию, описания путешествий и т.п., но сохранившиеся в нашем фонде экземпляры из этого собрания свидетельствуют и об иных увлечениях великого князя. Многотомное сочинение «Образование древних народов» Мишеля Дандре-Бардона (в русском переводе он назван «Дандреем Бардоном») было напечатано в Петербурге в 1795-1796 годах. Наш единственный том одет в красивый переплет из кожи двух цветов – алой и бежевой – работы Александра Александровича Шнеля, одного из лучших русских переплетчиков рубежа XIX-XX веков. На корешке книги кожаная наклейка-аппликация с именем автора и названием, а ниже – тисненые золотом номер тома и монограмма «АА». Из-за того, что над монограммой нет обычного великокняжеского атрибута – изображения императорской короны, мы не сразу решились соотнести ее с Алексеем Александровичем. Если экслибрисы членов Императорского дома изучены хорошо, то с суперэкслибрисами (а к ним относится и тиснение на корешке) исследователи осторожничают, и нужны достаточно веские причины, чтобы приписать подобное тиснение высочайшей особе. В идеале, конечно, для точной атрибуции суперэкслибриса на томе должны быть и другие владельческие знаки (например, экслибрис), но, к сожалению, так бывает далеко не всегда, и только найденные в Интернете фотографии других книг из библиотеки Алексеевского дворца с монограммой точно такого же рисунка убедили нас в том, что экземпляр сочинения Дандре-Бардона на самом деле принадлежал великому князю.
Наш том «Образования древних народов» посвящен воинским обычаям греков и римлян и проиллюстрирован без малого сотней гравюр, на которых изображены доспехи и оружие, осадные машины, колесницы, конница, боевые слоны. Есть и предметы, напрямую относящиеся к ведомству великого князя: биремы, триремы и другие типы судов, украшения и вооружение военных кораблей.
Другой суперэкслибрис Алексея Александровича мы нашли на книге, содержание которой никак не связано ни с военно-морским, ни вообще с военным делом. Сочинение Германа Ольденберга «Будда, его жизнь, учение и община» (Москва, 1900) позволяют взглянуть на великого князя совсем с другой стороны. Моряк, интересующийся буддизмом, должен быть интересной и неординарной личностью.
Другой суперэкслибрис Алексея Александровича мы нашли на книге, содержание которой никак не связано ни с военно-морским, ни вообще с военным делом. Сочинение Германа Ольденберга «Будда, его жизнь, учение и община» (Москва, 1900) позволяют взглянуть на великого князя совсем с другой стороны. Моряк, интересующийся буддизмом, должен быть интересной и неординарной личностью.

Библиограф Елена Вознесенская
Чтобы не утомлять наших читателей, на этом мы прервемся, но обязательно продолжим интересную тему великокняжеских библиотек в следующем обзоре, который выйдет как раз к Новому году.
События