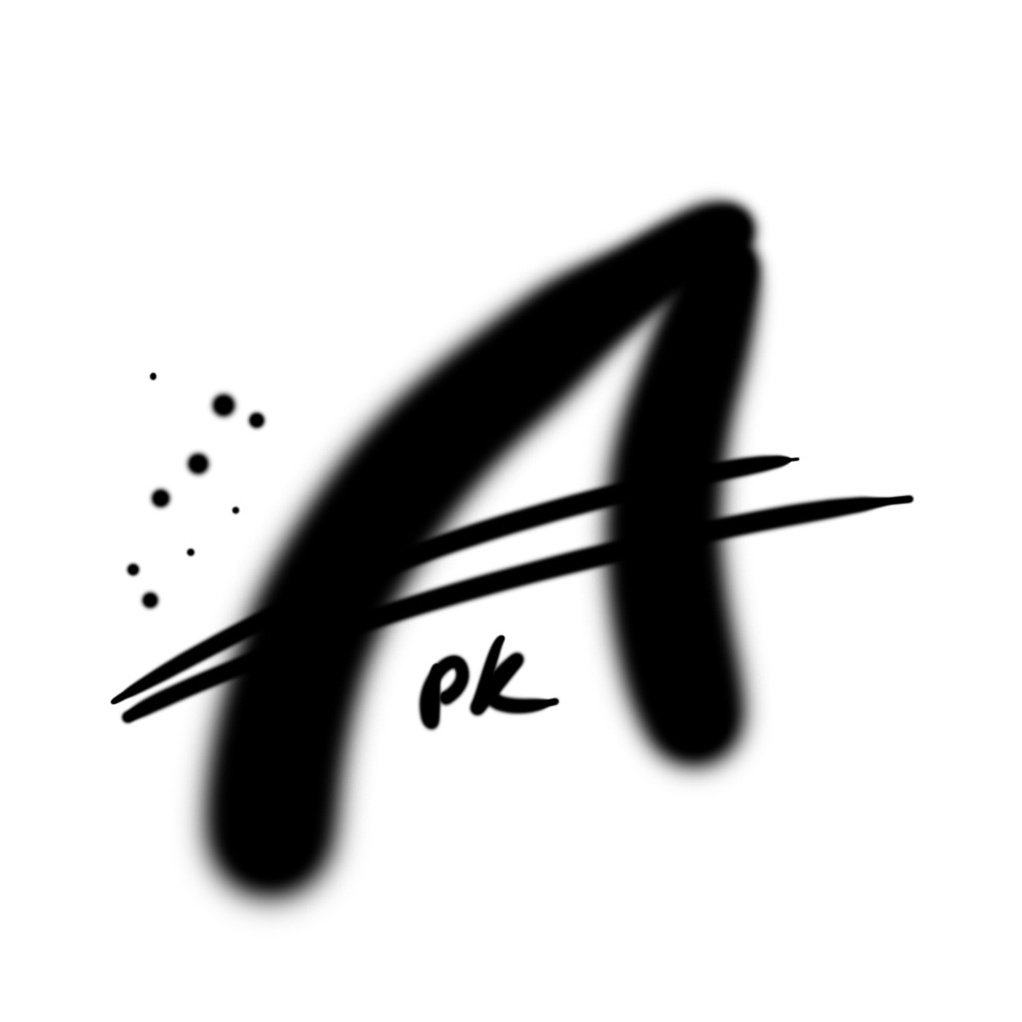Круги на воде
В сводной афише V Фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Театральная осень. Играем классику» удивляет режиссёрский жанровый подзаголовок спектакля «Opus 40. Бесприданница» Академического драматического театра им. М. Горького из Минска: «ярмарка невест в двух действиях». Позвольте, но ведь в пьесе Островского одна невеста?!

Текст: Наталия Крылова, фото: М.Никитин
Действие начинается с выхода хора. В затемнении медленно один за другим появляются артисты и заводят заглавную песню «Вниз по матушке по Волге». И если второй ряд хора – мужской – однороден, то женская его часть – те самые невесты, которых продают с торгов, – не похожи друг на друга. Виталина Бидюк, Ольга Здярская, Дарья Полякова, Александра Прищепова и Елена Стеценко – изначально разные. Когда они выходят на авансцену, мы видим, как одна поёт, самозабвенно закрыв глаза и покачиваясь в такт музыке, вторая не может стереть с губ полуулыбку и мечет в зал озорные взгляды, третья словно превратилась в соляной столб и т.д.
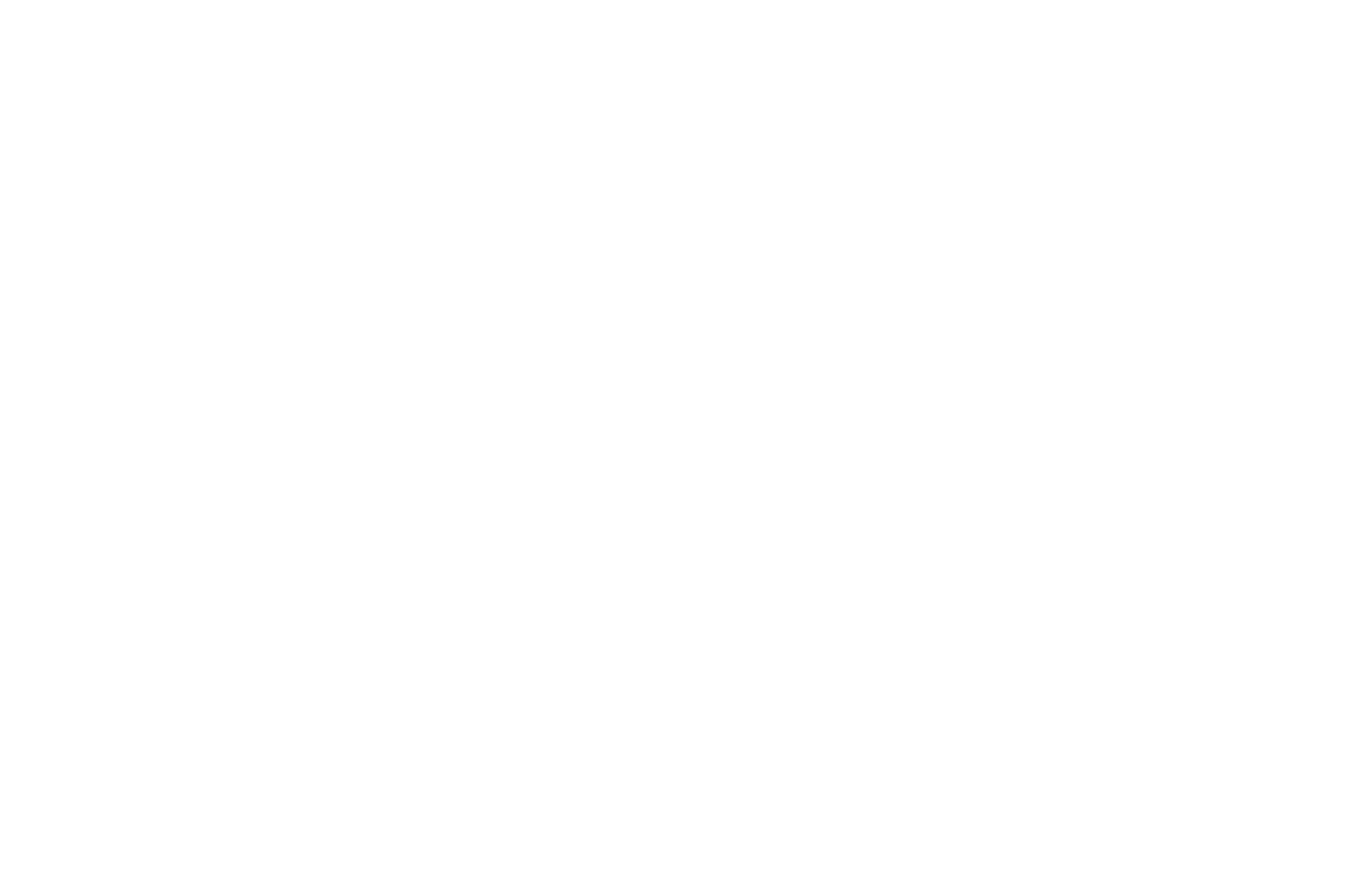
Пространство спектакля – река, опрокинутая в небо: пандус внизу, зеркальный навес наверху – визуально состоит из двух частей. Тягучая бурлацкая песня ширится, и невесты тонут под неё и в воде, и в собственных чувствах. А мужчины на арьерсцене отчаянно гребут и выплывают… И где происходит действие: в Бряхимове ли, в Калинове, в усадьбе Уланбековой, в подмосковном дачном посёлке или даже в Берендеевом царстве – неважно: всюду «Кошке игрушки, а мышке слёзки».
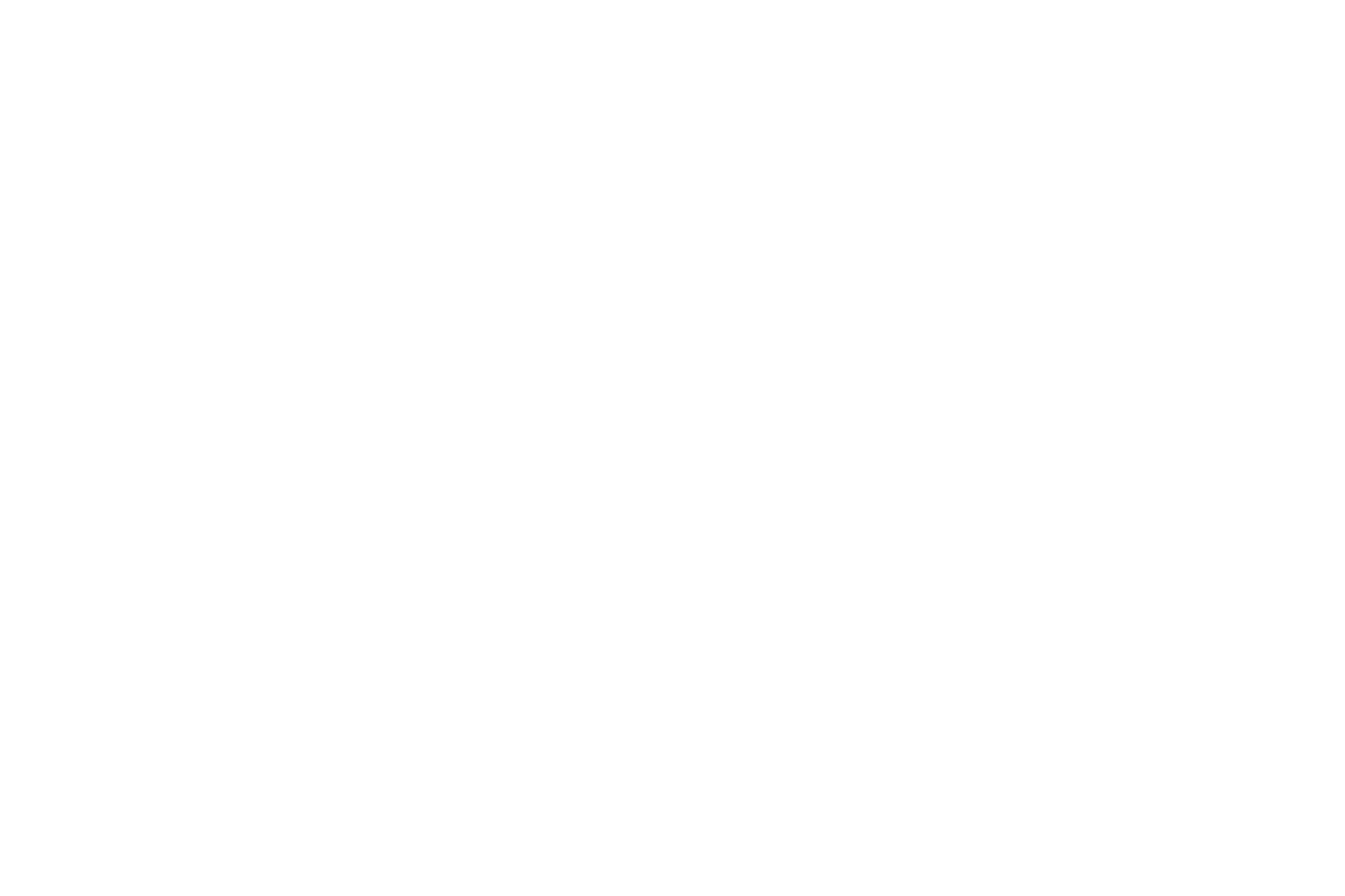
В тонущих в собственных слезах персонажах женского хора мы узнаём героинь как дореформенных, так и пореформенных пьес Островского: от Марьи Андреевны Незабудкиной из «Бедной невесты» до Евлалии Андреевны из «Невольниц». Тут и Надя из «Воспитанницы», и Валентина Васильевна Белесова из «Богатых невест», и Параша из «Горячего сердца», и Катерина из «Грозы», и Снегурочка, и многие другие. Так сквозь призму «Бесприданницы» – действительно «magnum opus» Александра Николаевича – мы видим тему женской долюшки его драматургии.
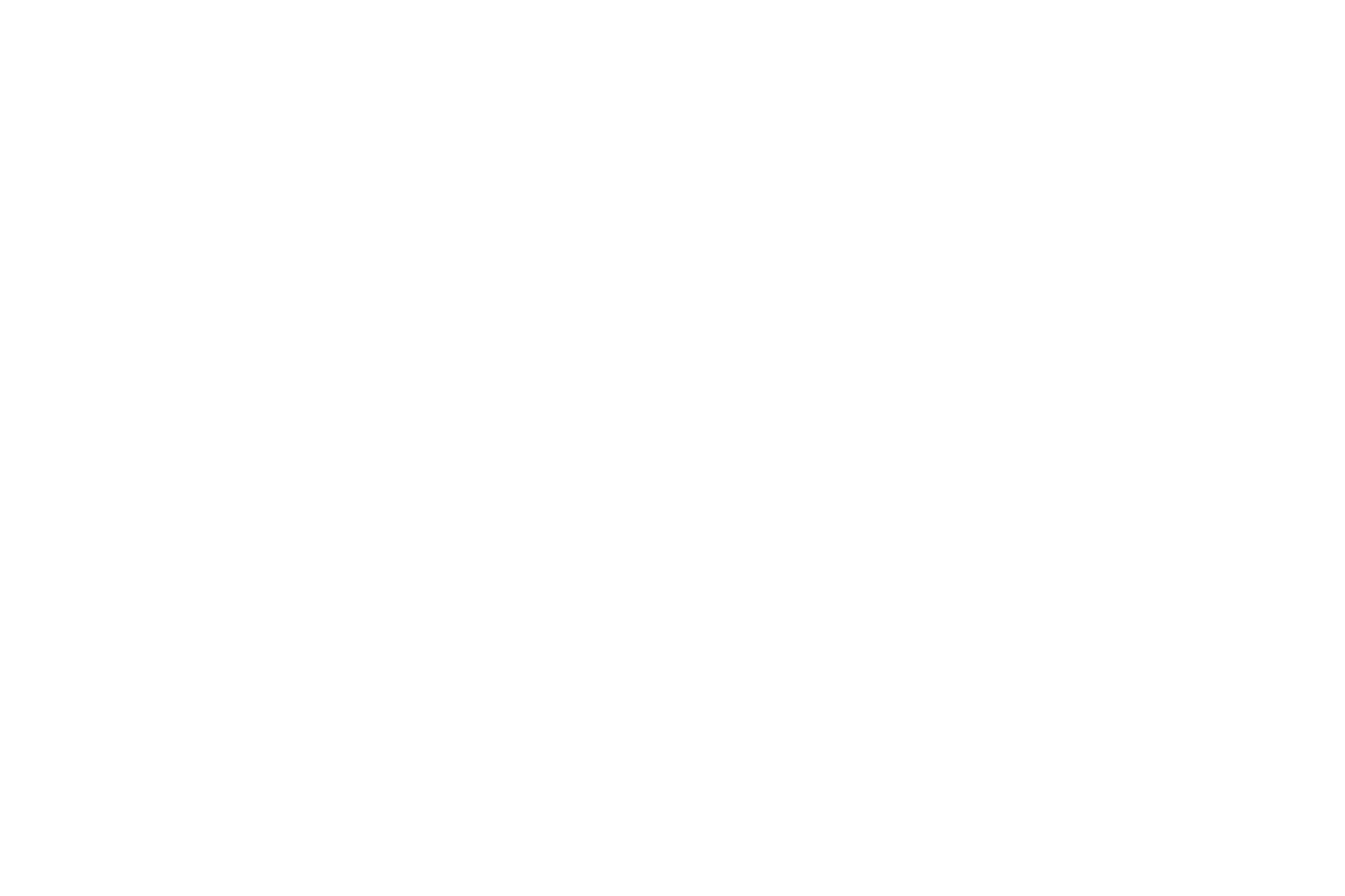
В существовании хора – закольцованный ритм. Женщины хора низводятся до фольклорных кукол в ярких юбках и павловопосадских платках. Но затем весёлый кураж сменяется яростной сценой стирки, в которой актрисы и их героини особенно отличаются друг от друга: разные темпераменты, разная пластика. Они и бьют, и крутят, и колотят об помост бельё, и яростно моют пол собственными слезами. А потом вновь песни, танцы, азарт до истерики и приклеенные фольклорные улыбки. И как женщины крутили и били тряпками, ровно теми же движениями мужчины крутят самих женщин, буквально превращая их в вещь. Но финал вырывает хор из этой дурной бесконечности.
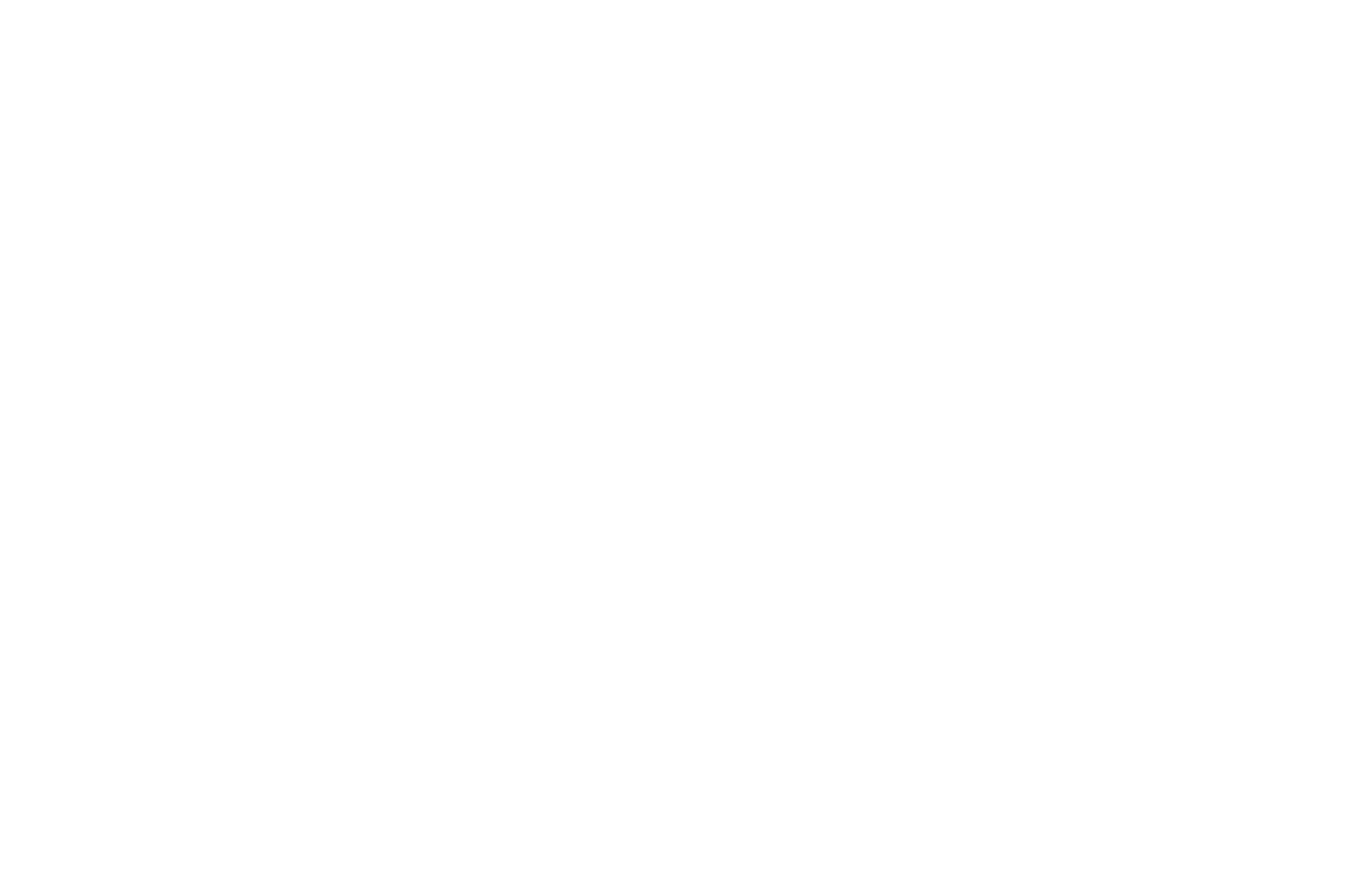
Лариса (Вера Грицкевич)
Спектаклю в программке предпослан эпиграф, составленный из фраз Паратова и Ларисы Дмитриевны и целиком приписанный Ларисе: «В любви равенства нет. В любви приходится иногда и плакать. Кабы любовь-то была равная с обеих сторон, так слёз-то и не было. Бывает это когда-нибудь?» Два последних предложения – ответ Ларисы на реплику Сергея Сергеича «В любви равенства нет, это уж не мной заведено. В любви приходится иногда и плакать». Так плакать, что и целую реку нарыдать можно: Волгу, например.
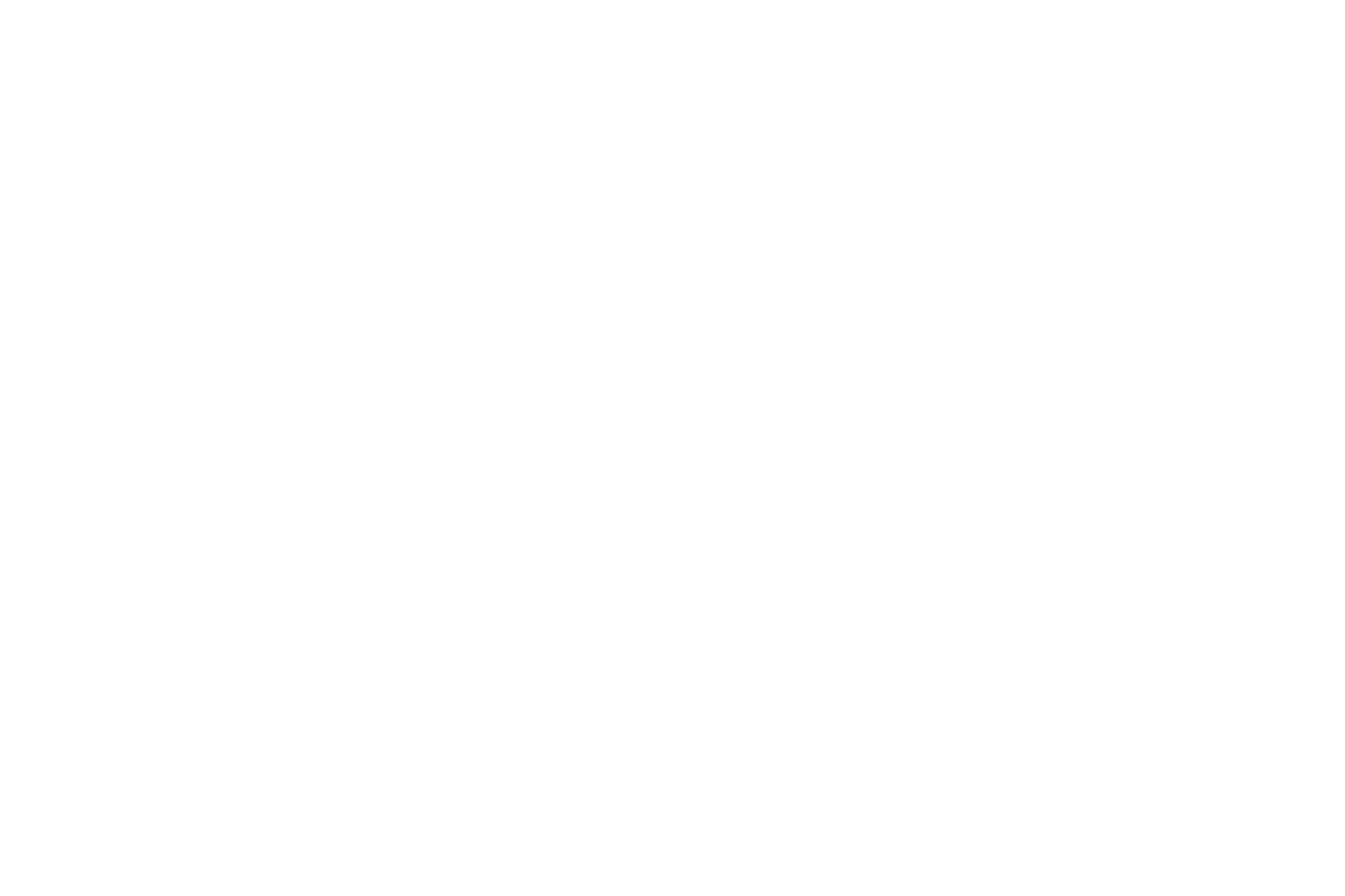
Кнуров (Олег Коц), Паратов (Руслан Чернецкий), Лариса (Вера Грицкевич), Вожеватов (Егор Третьяков)
С первого же сказанного слова образ Ларисы (Вера Грицкевич) поражает свой несоразмерностью заданному на сцене миру. Звукоподача актрисы выделяет её героиню, делает мощнее, масштабнее. Объём голоса будто не помещается ни в этом хрупком теле, ни вообще в человеческой оболочке. Глубокий, рвущийся из самой глубины души голос Ларисы становится голосом воли, свободы, естественности. Возможно, это голос самой Волги, великой реки, чьим олицетворением становится и любовь Ларисы, и вся её безбрежная натура. С начала первого действия Ларису тянет за Волгу, в финале она возвращается в лоно водной стихии.
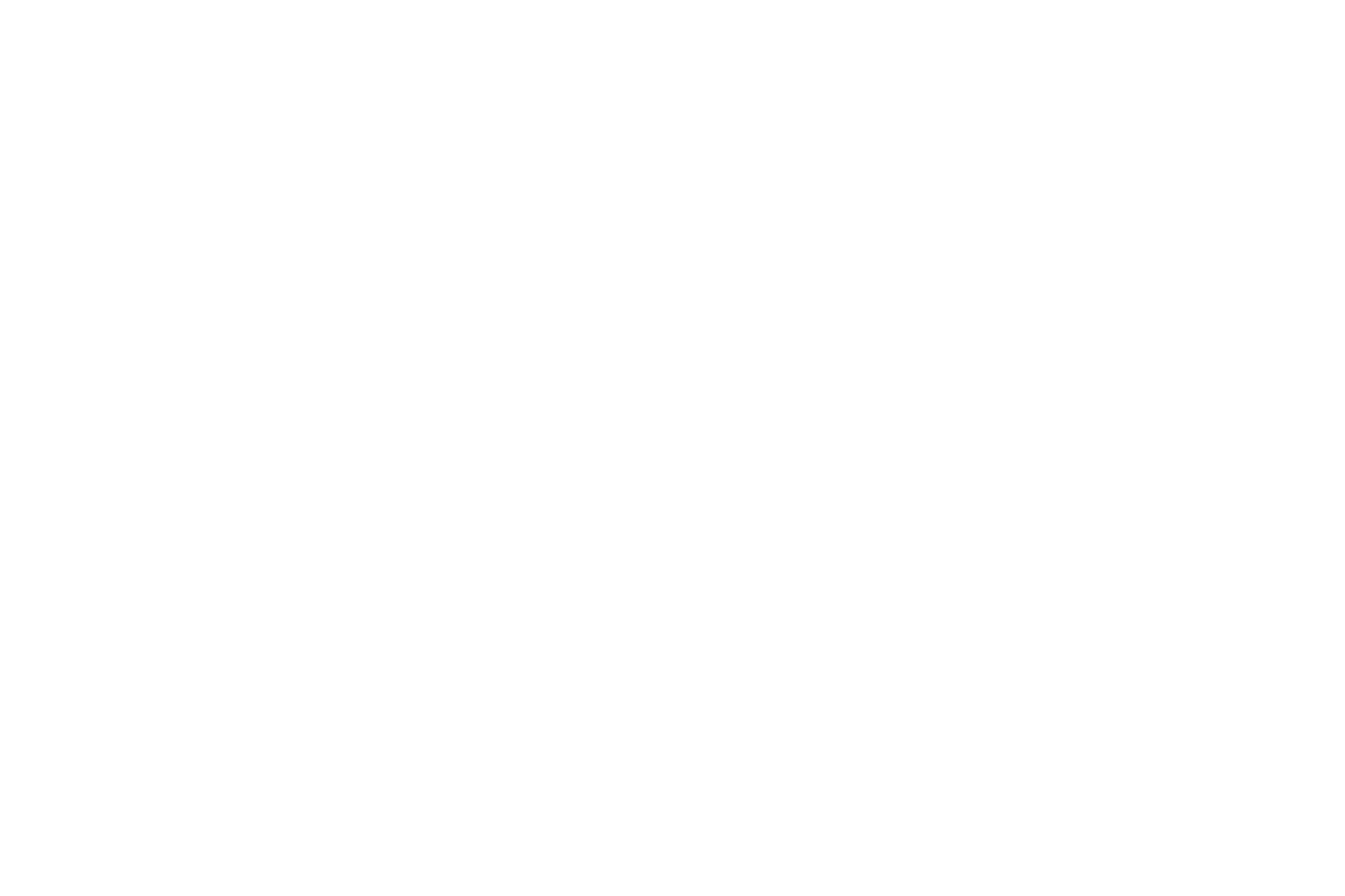
Огромный голос, страдающие глаза, трогательная мимика, промельк неуместной улыбки, – Лариса притягательна своей странностью, необычностью. Тем, что в пьесе Вожеватов, говоря о Ларисе, называет эпитетом «проста», а в этом спектакле – «дурна». Но когда она возвращается с Паратовым из-за Волги и перед трагическим финалом читает свой глубоко психологический монолог, она меняется. Выходя на авансцену, Лариса-Грицкевич не укрупняется, а мельчает. Она теряет своё инобытие, словно у неё уже отобрана мощь реки. Осознавая себя как вещь, пусть даже очень дорогую вещь, Лариса перестаёт быть подключена к стихийным силам природы, но выстрел Карандышева возвращает её обратно в былинное существование.
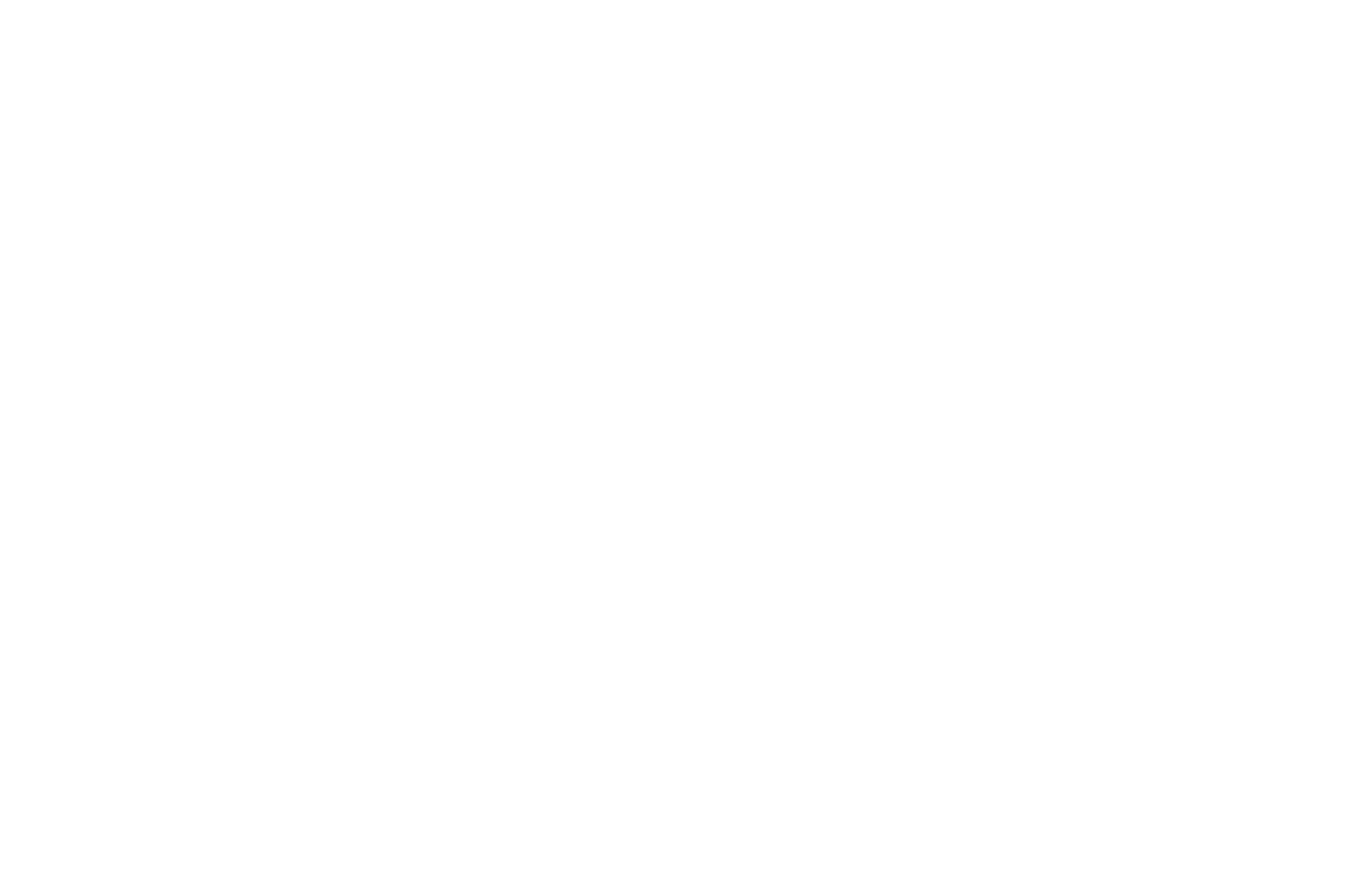
Наталья Жемгулене и Полина Никитина
Оба театральных критика – и Наталья Жемгулене из Петрозаводска, и Полина Никитина из Санкт-Петербурга на обсуждении говорили, что спектакль словно сложен из двух разных частей, но если для Жемгулене это происходит хронологически: первое действие – современное, второе – более традиционное, то Никитина выделяет чередование драматических частей, когда выносят стол и идут торги, и песенно-танцевальных интермедий. Можно делить и иначе: на женскую и мужскую составляющие, небесную и земную (точнее – водную) или, скажем, на красную и чёрную…
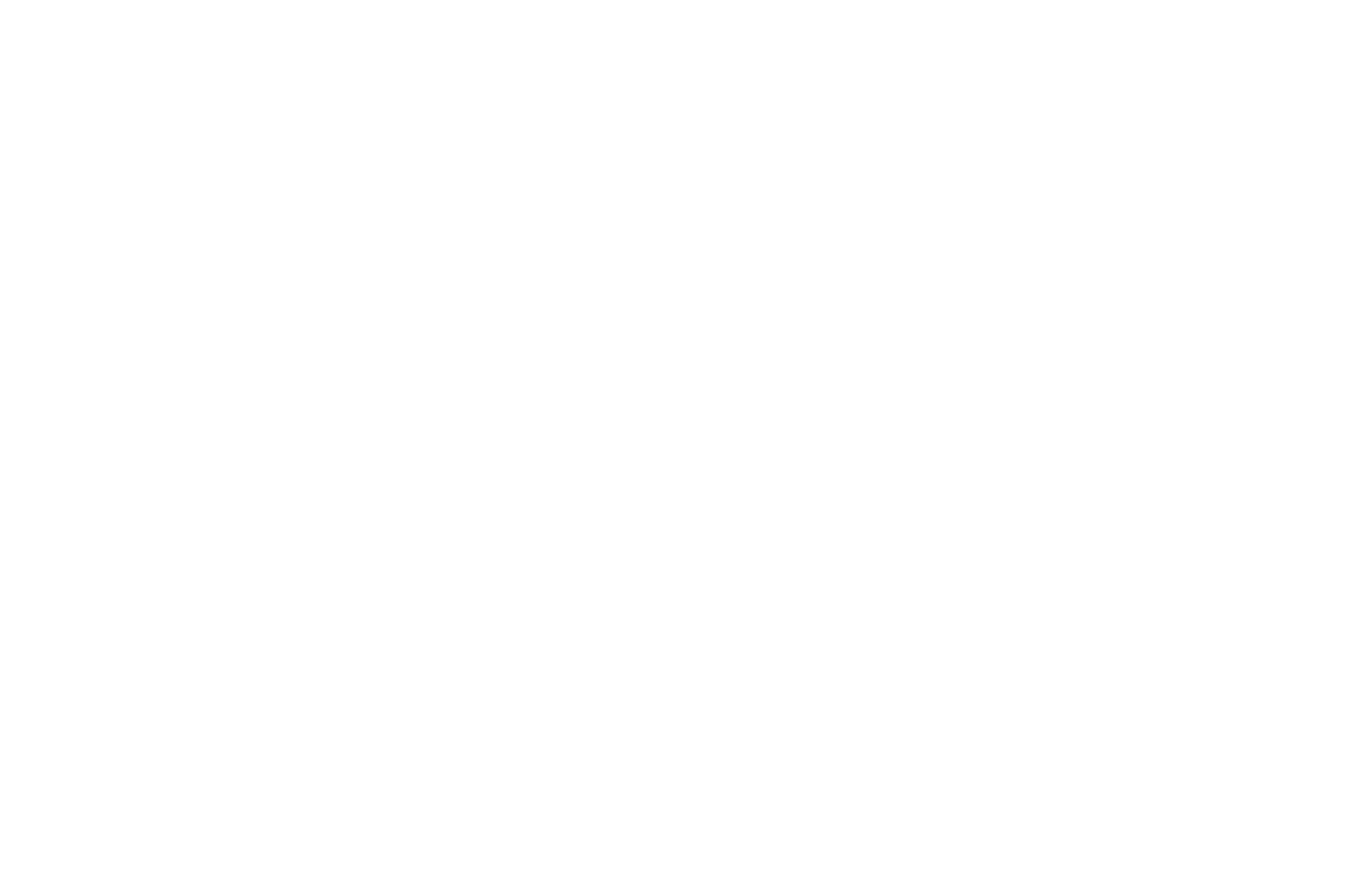
Вожеватов (Егор Третьяков)
Зритель видит два спектакля, и внутри этих спектаклей – два ракурса, которые по-разному взаимодействуют друг с другом. Зеркальный план то визуально упрощает мизансцену, то усложняет или абстрагирует её до картинки в калейдоскопе, то констрастирует с ней, то дополняет. Одна из самых ярких находок – лодка из платков, которая появляется в небесном отражении.
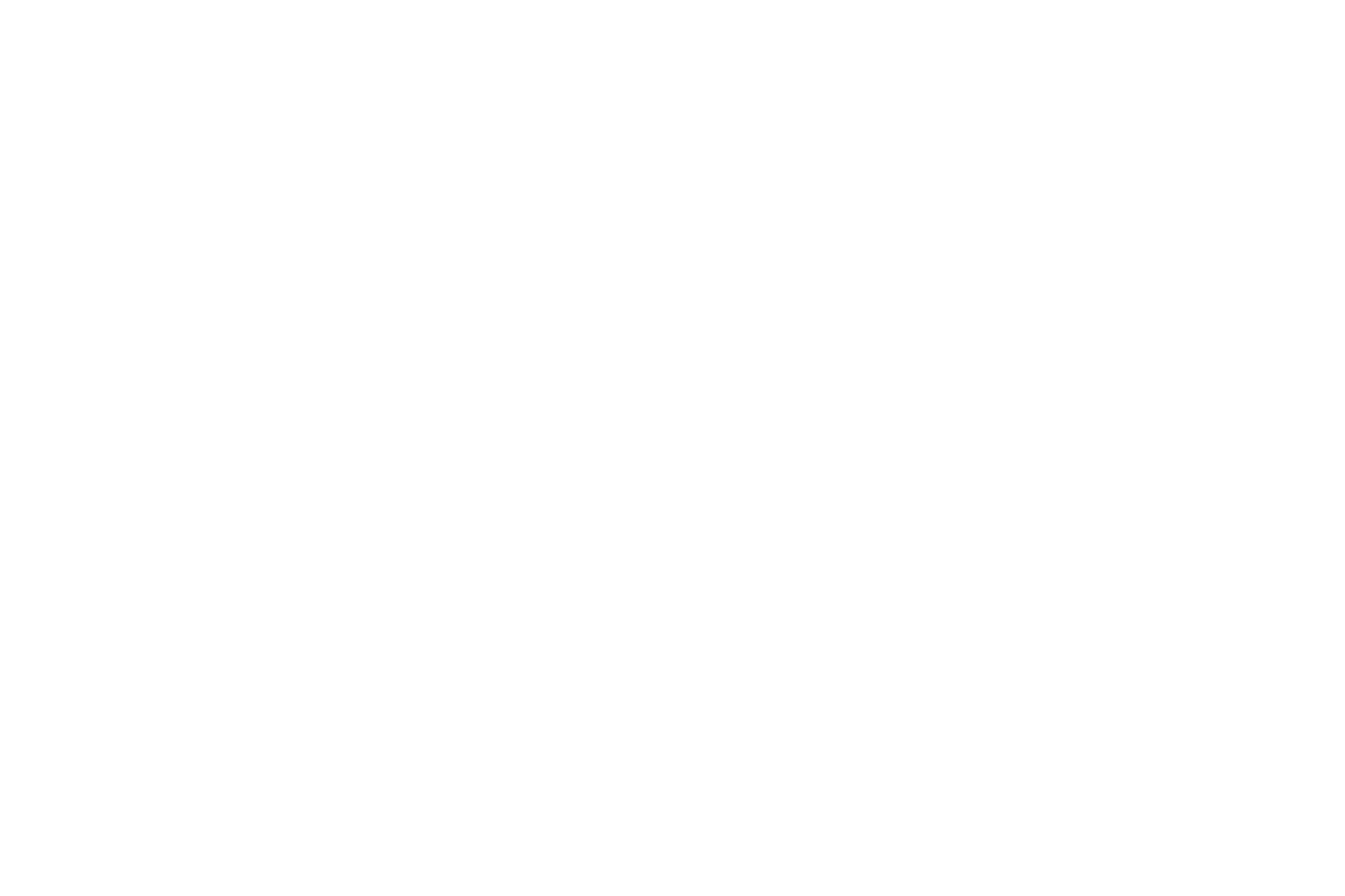
Карандышев (Сергей Жбанков)
Два разных способа сценического бытования спектакля заявлены уже в красно-чёрной программке: это предвестие крови на брусчатке и цвета хохломской росписи, в узорах которой преподнесённая Вожеватовым коробочка «на рождение» Ларисы и блокнотик Хариты Игнатьевны (Анна Маланкина), где она записывает приход. На обложке программки на чёрном фоне – высохшее дерево. «Ведь я – не дерево», – говорит Ларисе Паратов в самой важной мизансцене спектакля, в финале которой она соглашается омыть и напоить Паратова водами своей безграничной любви.
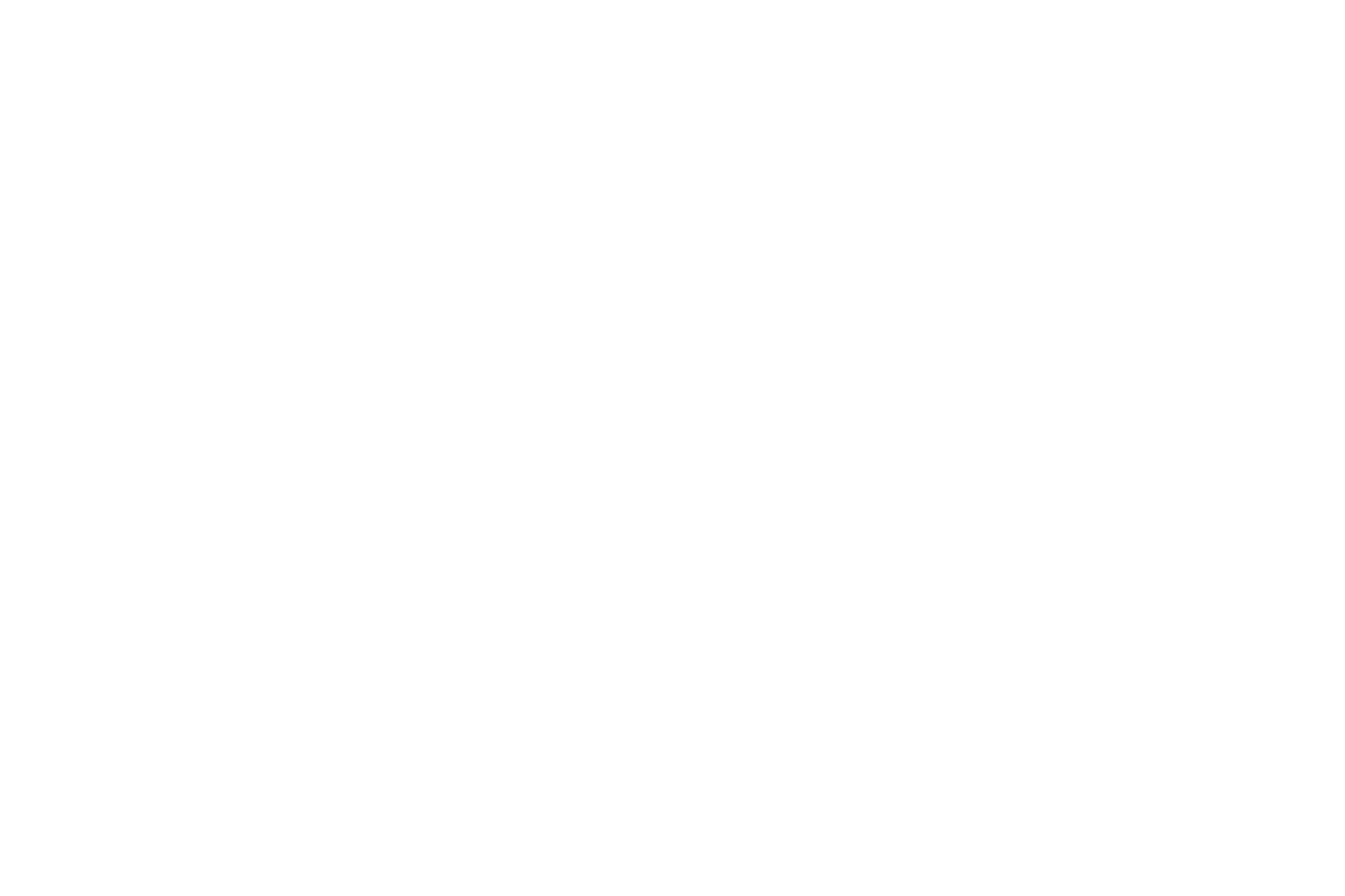
Харита Игнатьевна (Анна Маланкина), Кнуров (Олег Коц)
Ярко-контрастны, как программка, и герои: их качества докручены до предела. Вожеватов (Егор Третьяков) – хлыщ и шут, он не занимается «малодушеством», отлично понимает себя и свои желания и, когда в лета войдёт, будет идолом, как Паратов, а не как Кнуров. Паратов (Руслан Чернецкий) – опереточный злодей, Бертрам из «Роберта-дьявола»: он приехал сюда весело провести «мальчишник», напоследок погудеть перед женитьбой, и Лариса, Робинзон и Карандышев становятся только фишками в его игре. Карандышев (Сергей Жбанков) – это уже тип не Островского, а Достоевского: смешной человек и его сны наяву. Продуманная и точная работа актёра делает его героя и привлекающим зрительское внимание, и излишне психологичным для условно-мифологического мира постановки – потому Карандышев и стреляется в финале. (В самом финале Карандышев уходит на арьерсцену и направляет пистолет в себя).
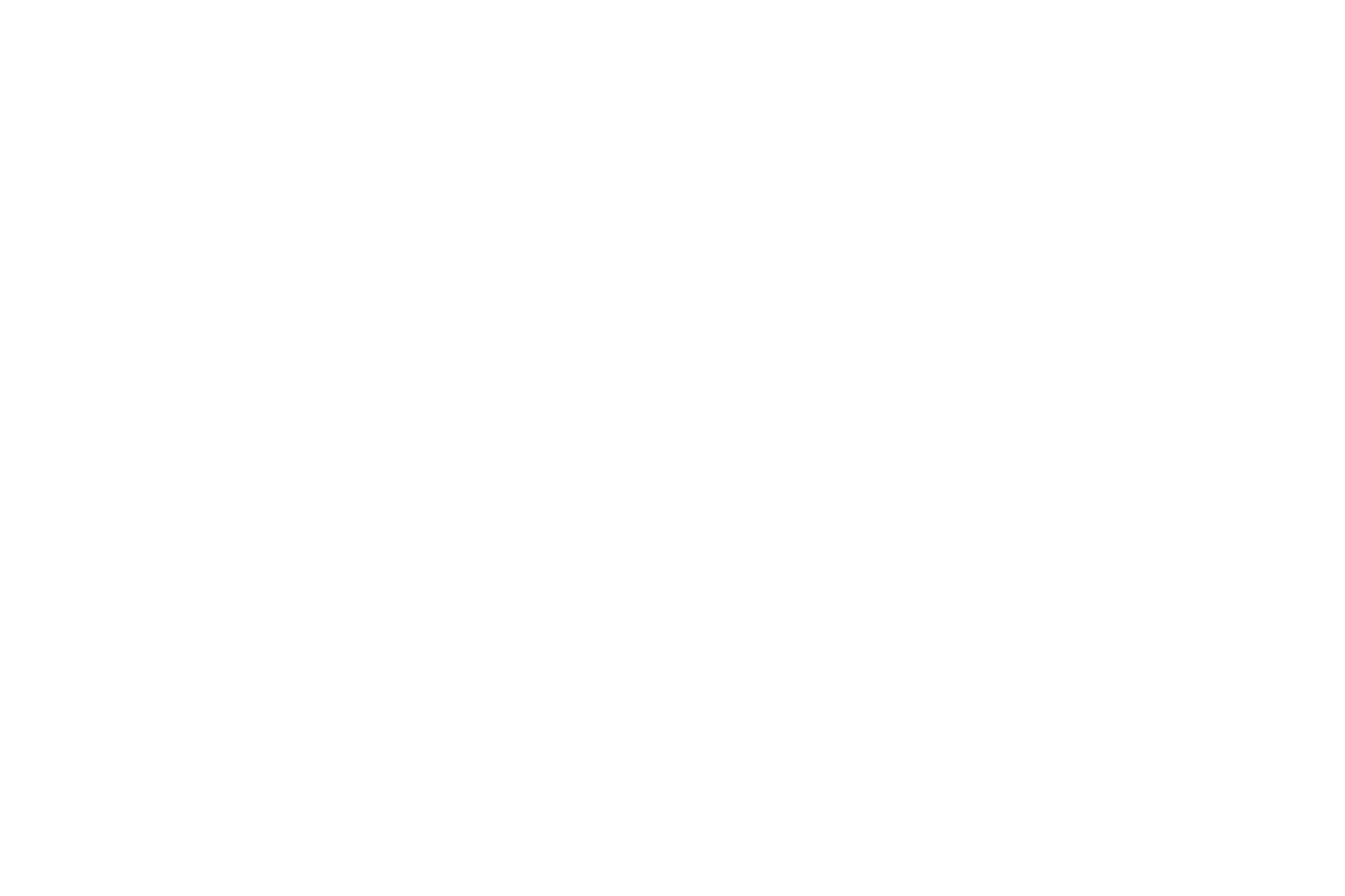
Паратов (Руслан Чернецкий), Робинзон (Павел Евтушенко)
Самым органичным и живым в пространстве спектакля оказывается Кнуров (Олег Коц). Герой Коца не бездушный «идол»: он живо всем интересуется, умеет слушать и всё подмечать. Артист невероятно внимателен к своим партнёрам. А как его Кнуров слушает песню Ларисы! В то время Вожеватов-Трутьяков отвлекается, моргает и делает вид, что слушает, а Паратов-Чернецкий делает вид, что думает и в задумчивости барабанит пальцами, Кнуров Олега Коца целиком поглощён пением, кажется, он даже перестаёт дышать. И как только Лариса замолкает, он первым кидается к ней с восторгами. В этом спектакле Мокей Пармёныч – единственный, кто любит Ларису. Вожеватов и Паратов холодны, как рыбы, Харита Игнатьевна любит только деньги, Карандышев – «подпольный человек»: ему бы с собой разобраться, где уж другого любить…
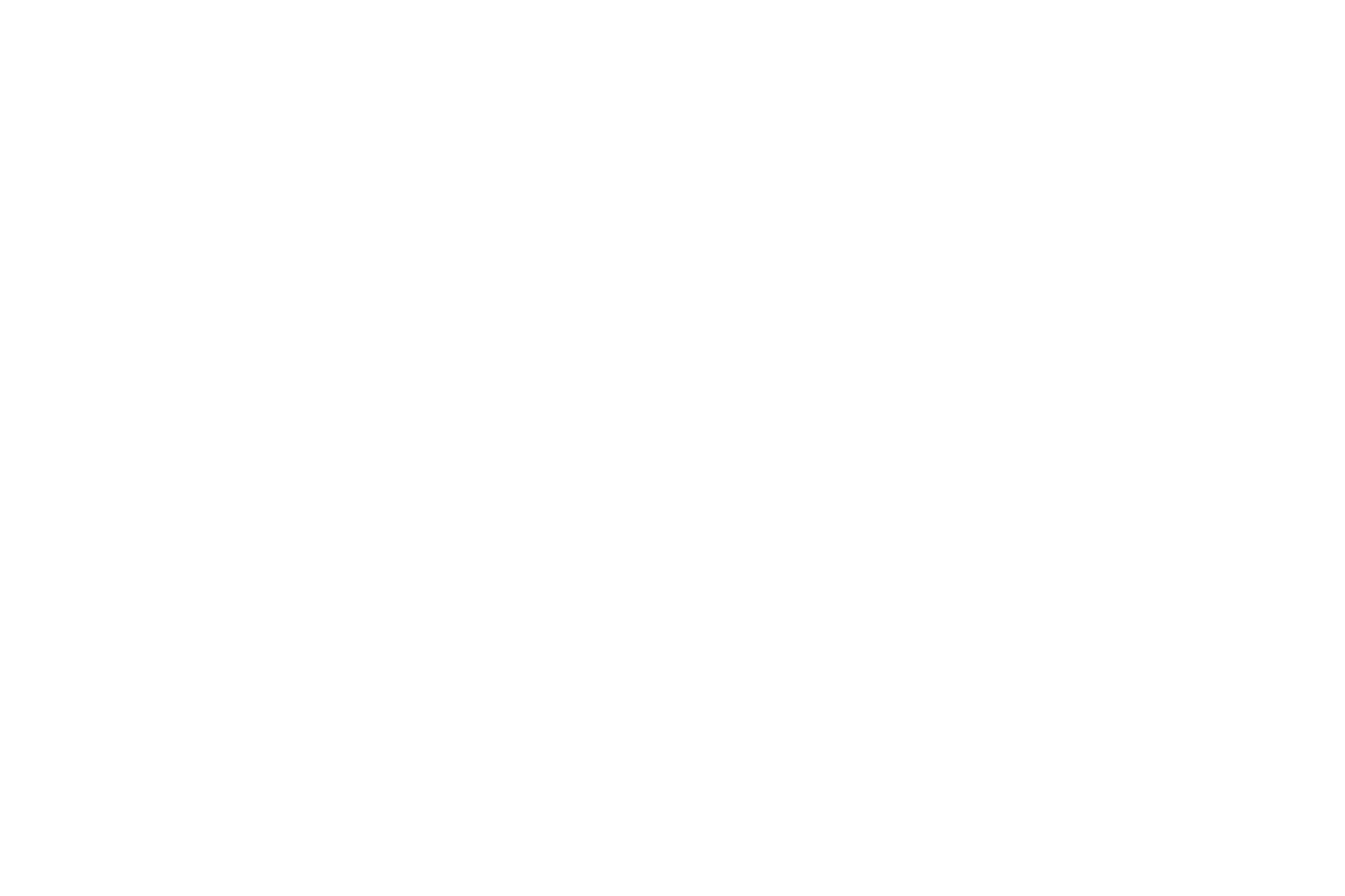
Кнуров (Олег Коц)
Есть в спектакле и игра со зрителем: например, Робинзон (Павел Евтушенко) выглядит, как клон Валерия Леонтьева. Кнуров-Коц даёт старшей Огудаловой триста рублей, в руках персонажей одновременно появляется два похожих блокнотика, и Харита Игнатьевна, записывая свой приход, словно нерадивая ученица, заглядывает в блокнот Мокия Пармёныча. В начале второго действия в разудалой пляске все четверо мужчин появляются в шлафроках, тем самым Карандышев оказывается как бы принят в общий круг, при этом в сцене есть и нисходящая метафора: шлафрок – не фрак. «Мохнатый шмель…», – начинает было петь Паратов (Руслан Чернецкий) сотоварищи, но сам себя останавливает: «А, нет!», и они переходят на «Эх, загулял парень молодой!». И таких мелких гэгов в постановке несколько.
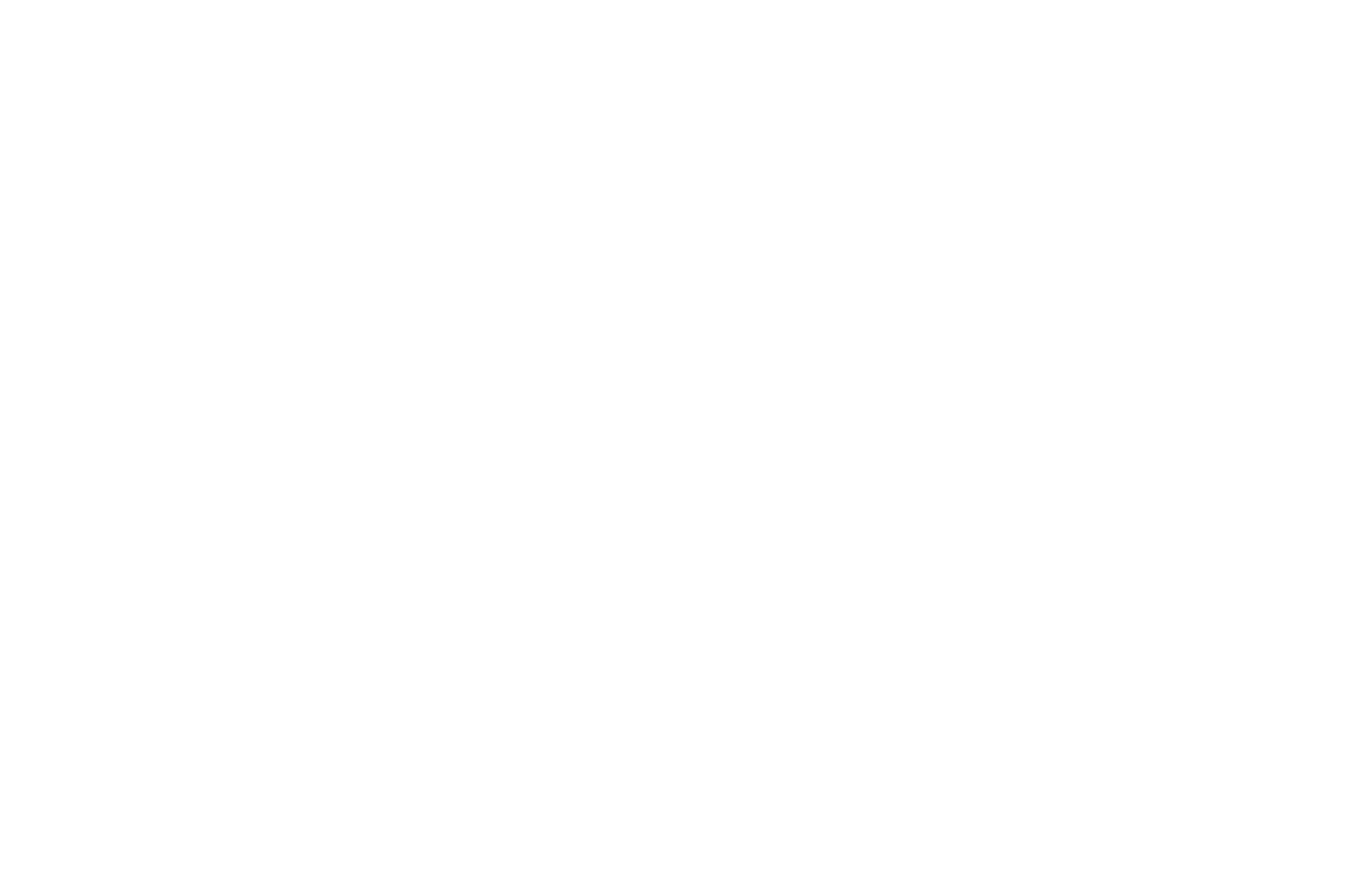
Дважды на сцене появляется мизансцена круговорота вокруг Ларисы: первый раз, когда трое мужчин после песни «По Муромской дорожке» закручивают её своими аплодисментами в хоровод, а второй – в самом финале, когда вертится ритуальный круг вокруг умершей. В этом языческом круговороте синие волны Волги становятся чёрными водами Стикса, и «река времён в своём теченье смывает все дела людей».
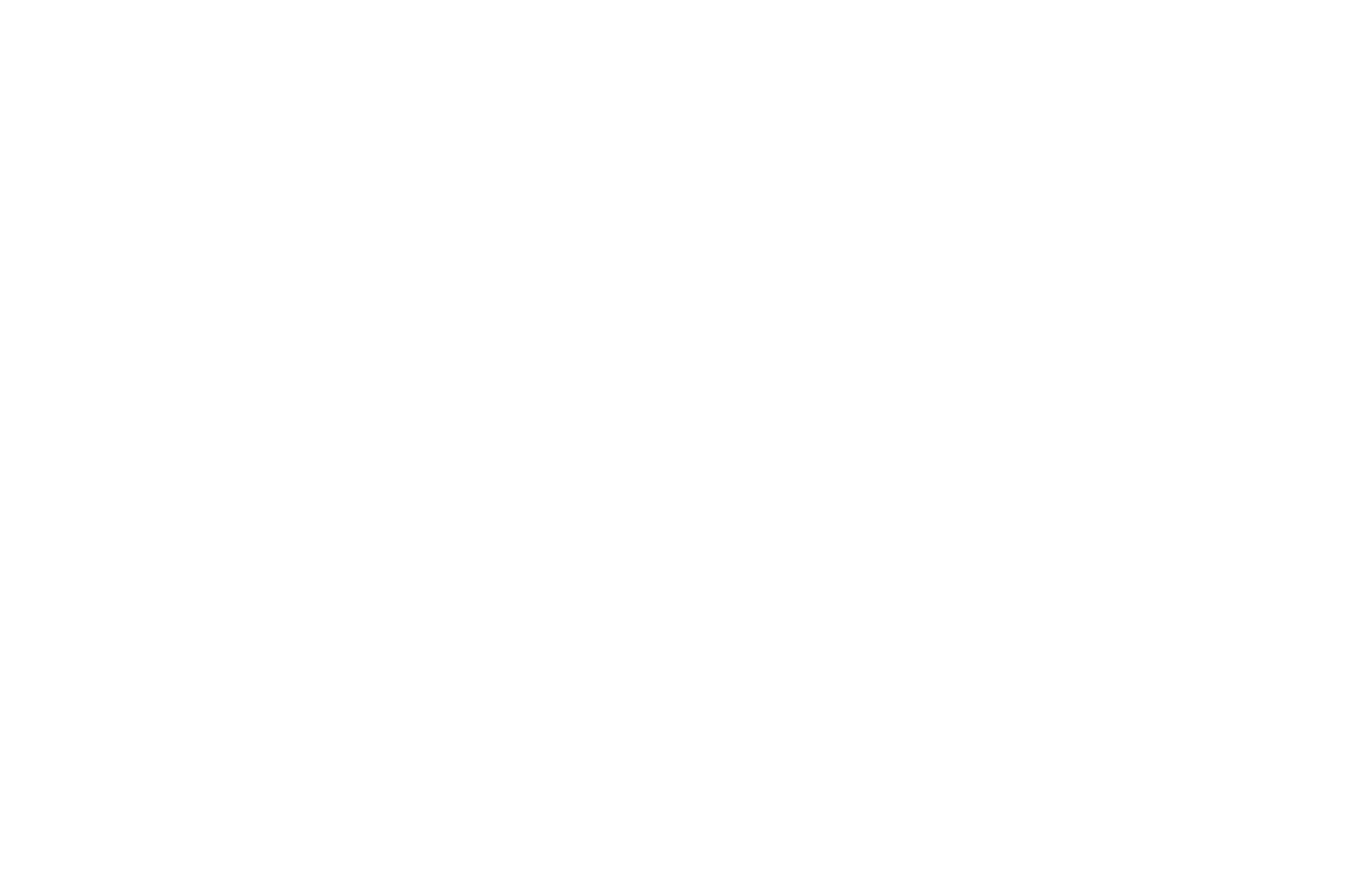
И странное дело: отражаясь в зеркале неба, языческий обряд перехода вдруг приобретает новое значение. Зрители видят преображение Ларисы в отражении, и для них, словно андерсеновская Русалочка, из ундины она превращается в Деву воздуха. И тут за Ларисой Огудаловой стоит уже не только женский хор Островского, но и Маргарита из «Фауста» Гёте, и другая – булгаковская – Маргарита, и Мария Магдалина, и женщина из города Наин, и ещё целый сонм литературных и мифологических героинь: «Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много».
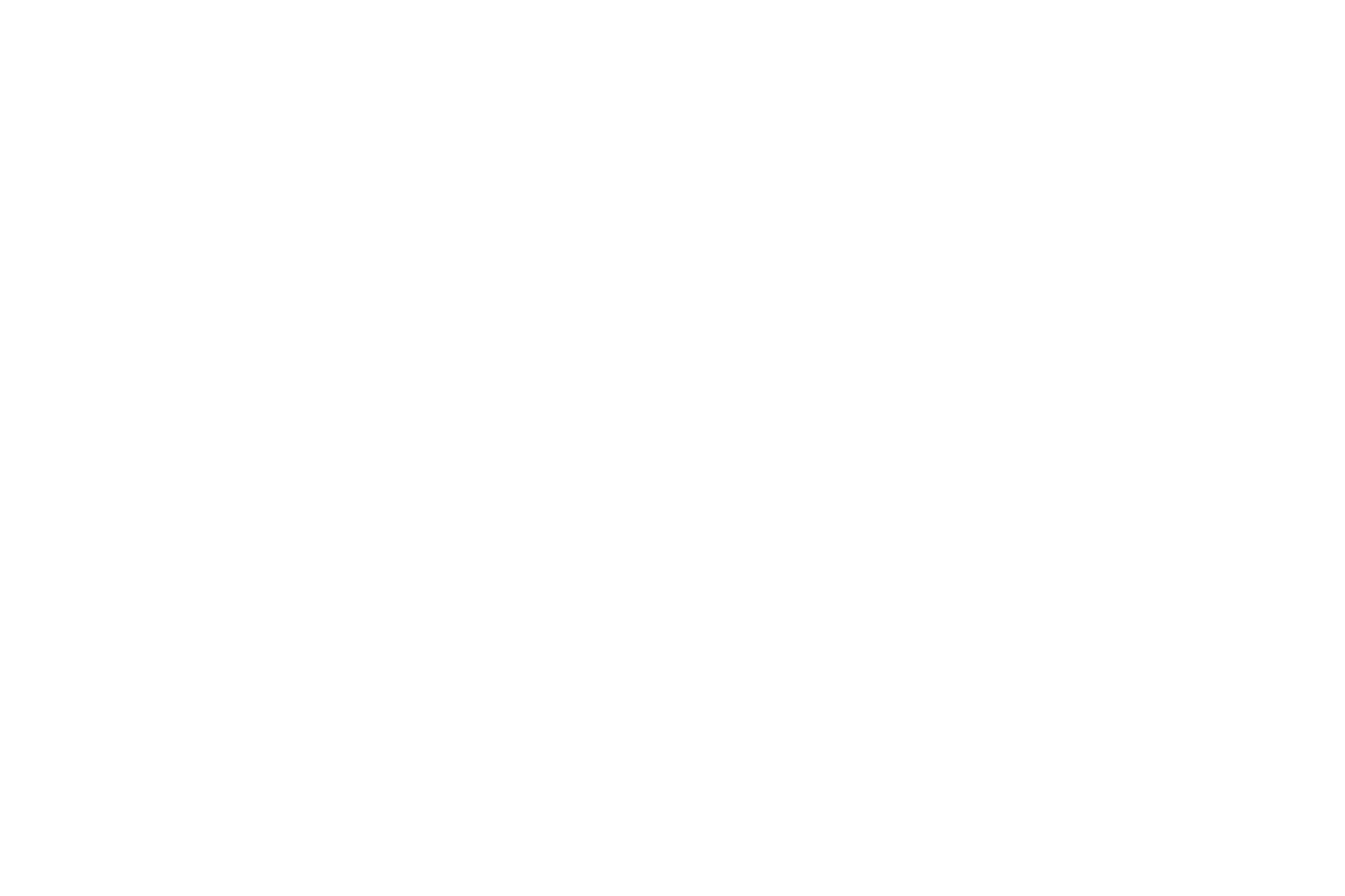
Напоминаем, что «Арка» проводит конкурс зрительского отзыва.
Дорогие зрители и читатели «Арки»! Вы представить не можете, как важны и интересны для нас ваши отзывы на спектакли, как интересно их читать. До 20 сентября включительно каждый может прислать отзыв на любой спектакль фестиваля в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Лучшие отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самой интересной и оригинальной оценки будет награждён помимо публикации ещё и памятным призом от редакции.
Дорогие зрители и читатели «Арки»! Вы представить не можете, как важны и интересны для нас ваши отзывы на спектакли, как интересно их читать. До 20 сентября включительно каждый может прислать отзыв на любой спектакль фестиваля в сообщения группы АркА - журнал о культурных событиях. Лучшие отзывы будут напечатаны на страницах журнала, а автор самой интересной и оригинальной оценки будет награждён помимо публикации ещё и памятным призом от редакции.
События